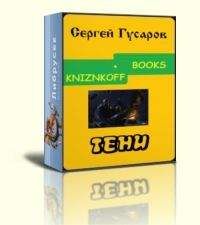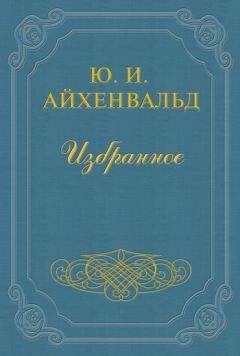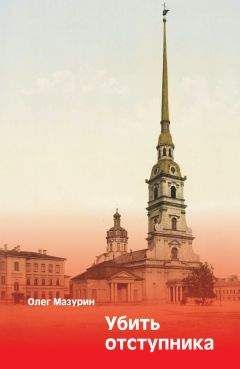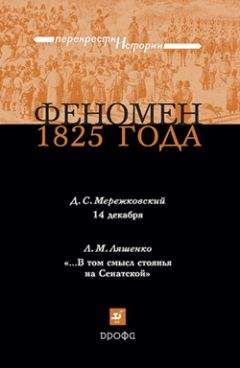Сергей Терпигорев - Потревоженные тени
А там, через неделю, вернулись раньше срока из Москвы и отец с матушкой, не выдержавшие такой долгой разлуки с нами.
ПЕРВАЯ ОХОТА
I
Это было в 1853 или 54 году, летом, так, должно быть, в последних числах августа. В это время у нас поспевает уже конопля, и ее можно есть, то есть можно нагнуть головку, намять семечек и жевать их: это довольно вкусно — что-то вроде молодых орехов... Ниже будет понятно, почему я запомнил, что конопля тогда была уж спелая.
Мне было в то время лет девять или десять. Я начал себя помнить очень рано — лет с шести. Я бы сказал — еще раньше, да боюсь, не примешиваются ли тут к воспоминаниям слышанные в детстве рассказы. Рассказ произвел впечатление, детское воображение облекло его в образы; эти образы — чаще всего страшные, грозные — жили, пугали, вызывали страх, любопытство, сжились и так и остались в памяти. У людей, которые в детстве были нервными и впечатлительными, это — сплошь и рядом.
Но уж девяти или десяти лет кто ж себя не помнит? У меня в это время были две гувернантки и два гувернера, и свадьбу одного гувернера с одной из гувернанток, случившуюся как раз в это же время, я помню отлично, со всеми подробностями. Так же хорошо и отчетливо я помню вот и это событие, о котором буду сейчас рассказывать.
Я, право, не знаю, вычитал ли это отец из книг каких или дошел до этого сам своим умом, но им было постановлено, чтобы я начал учиться читать и писать не раньше двенадцати лет. Матушка была против, и это даже огорчало ее.
— Но в таком случае, мой друг, для чего же ты хочешь, чтобы у него было два гувернера и две гувернантки? — говорила она.
— Откуда же это: у него? Гувернантки для Сони, а вовсе не для него. Для него одни гувернеры.
— Зачем же их двух? Разве один не может?
— Нет, не может... Прежде всего, гувернер — кто? Ты подумай, что ты говоришь...
Он остановился и смотрел на матушку. Она тоже поднимала на него глаза:
— Как кто?
— Да кто он такой?
— Ну, француз, немец...
— А француз или немец разве не человек?..
Она пожимала плечами.
— Кто ж об этом спорит?
— Ты споришь.
— Я?.. Ты бог знает что говоришь...
— Нет, это ты, душа моя, бог знает что говоришь. Это ты не хочешь понять, что гувернер человек...
Отец медленно вынимал из кармана шелковый, фуляровый носовой платок, потом из другого кармана золотую табакерку, производил «операцию» не спеша, молча, улыбаясь, и только когда все бывало уж кончено, объяснял свою мысль. Это он всегда так делал. Сперва скажет что-то вроде загадки, сделает несколько замечаний по поводу того, что «спрашивать и отвечать надо всегда подумавши», потом, как бы давая время на размышления, займется «операцией», и уж после всего этого — объяснение, ключ.
— Ну так как же? Гувернер — человек?
— Ах, что ты говоришь! Ну, разумеется.
— Ты не тревожься, не горячись... Если он человек — может он устать? Нужен ему отдых?
— Нужен.
— Ну, и все ясно... Теперь ты понимаешь, для чего нужен второй.
И он в это время, довольный, тонко улыбался, а если, кроме матушки, присутствовал кто-нибудь еще, то он взглядывал и на него.
Такая была уж манера у него. Мне кажется, при его характере, флегматичном от природы, она развилась у него под впечатлением деревенской скуки. Тишина и скука тогда были ужасные. Эти съезды, о которых теперь рассказывают в воспоминаниях, ведь не непрерывные же были. Ну, съедутся, поживут дня три, четыре, пять. А потом, когда все уедут, скука и одиночество чувствовались еще сильнее.
Не только с матушкой и по поводу моего воспитания, но я помню такие же, то есть подобные этому, беседы отца и со старостами, с управляющими, с проходящими за чем-нибудь мимо окон поварами. Сидит он, бывало, у окна или на крыльце. Скука, жара. Впереди, на пыльной дороге, никого не видать. Дальше за дорогой пруд. Вода как в тазу — совсем без движения. Даже звуки замерли. Только на кухне слышно, как повара выбивают дробь ножами, — значит, будут к обеду котлетки или пирог: рубят мясо для котлеток или начинку для пирога... Вдруг он замечает — из кухни торопливо вышел и идет мимо дома повар в белой куртке, в белом переднике — все как следует по форме, нет только белого колпака на голове.
— Василий!
Повар, сначала не заметивший, что у окна сидит барин, теперь замечает его и останавливается.
— Ты куда?
— На ледник, за сметаной-с.
— Для чего?
Тот объясняет.
— А скажи ты мне, пожалуйста, как ты думаешь, кто ты такой?
Повар смотрит и не понимает.
— Кто ты такой? — повторяет он.
— Ваш слуга-с... Крепостной ваш человек-с.
— Это я все знаю. Ты мне скажи: кто ты такой? Ну, кучер ты, садовник, столяр?..
— Я-с?.. Я повар-с, — все еще ничего не догадываясь, отвечает он.
— А если ты повар, — что ты повар, это верно, — разве ты не знаешь, что у тебя должно быть на голове?
Повар вспоминает, что он не в колпаке, поднимает к голове руку, как бы еще не уверенный в том, что колпака нет, и, улыбаясь, говорит:
— Виноват-с...
— Виноват! Нехорошо это... Пожалуйста, братец, чтоб этого в другой раз не было... Иди...
Страшная была скука. От скуки удивительные слагались характеры и удивительные выходили люди...
II
Гувернеров обоих — и m-r Беке и Богдана Карловича фон Гюбнера — привезли из Москвы в один и тот же год и даже вместе. Возили шерсть в Москву продавать, покупали там провизию «для дому», то есть макароны, чай, кофе, рыбий клей, вино, горчицу, зеленый горошек, и со всем этим вместе привезли и гувернеров. Рекомендовал их, то есть нанял и отправил к нам в деревню, я уж не помню кто. Помню только, что они приехали вечером, когда я ложился спать. Я слышал из моей комнаты движение, какие-то голоса, спросил об этом, и мне сказали, что «из Москвы вернулись» и привезли гувернеров.
— Двое их?
— Двое-с, — ответил дядька. — Один этакий высокий, а другой будет пониже...
— Старые они? :
— Так, средственные-с...
Утром, за чаем, я их увидал. Они сидели рядом и пили чай со сливками и сдобными булками. Полный блондин с гладко выбритым лицом, в коричневом сюртуке и в голубом галстуке, оказался немцем Гюбнером. Он сидел ближе к матушке и разговаривал с нею. Худой высокий брюнет, весь в черном, — был m-r Беке. Этот сидел ближе к отцу и говорил с ним. Немец говорил громко и громко хохотал. Француз, напротив, был удивительно тих. К первому я попал к немцу. Лишь только я поздоровался с матушкой, он взял меня за обе руки, потом начал приятельски трепать по спине, по плечу, тормошил, говорил по-русски, по-немецки, и так и заливался смехом. Этот смех мне показался каким-то искусственным, неестественным. Он, вероятно, хотел расположить этим к себе, но только оттолкнул. Француз же мне сразу очень понравился. Он совершенно спокойно, как будто видел меня уже сотню раз, поздоровался со мною, пожал мне руку, посмотрел на меня так, вскользь, на всего и продолжал опять о чем-то говорить с отцом.
Матушка налила мне чаю в мою большую разрисованную чашку, я подбавил туда сливок с пенками, взял крендельков и принялся пить и есть, посматривая то на одного, то на другого гувернера. Француз не обращал на меня никакого внимания; немец же выказывал его все больше и больше.
— Ви играть любит?
— Люблю, — отвечал я.
— А учиться будет любит?
— Буду любить.
— Учиться — это надо. Нынче все должен учиться. Потом ви будет официр... Да?
Он посмотрел на матушку, но та, грустно улыбаясь, отрицательно покачала головой.
— Гражданской служба? — сказал немец.
Она в подтверждение несколько наклонила голову.
— Тогда еще больше надо учиться. Мы поедем потом в университет. Там, о, как весело! У нас в университет было тысячу сто студент...
— Нет, он в лицей, — сказала матушка.
Немец удивился, недоумевая посмотрел на нее и тихо, таинственно спросил:
— А как же тогда, чтоб он не учился ни читать, ни писать до двенадцати лет? Туда больших не принимают...
Она подняла плечи и опять грустно улыбнулась.
Немец опустил глаза, отхлебнул чаю и, играя правой рукой хлебным шариком, повернул голову к отцу и стал слушать его разговор с французом.
— Прежде всего надо запастись физическими силами, — говорил отец, — надо, чтобы ребенок окреп в здоровье настолько, чтобы его не могли сломить никакие усиленные занятия в школе. Это прежде всего. Потом ему необходимо знать языки. По-настоящему, ему следует знать, кроме французского и немецкого, еще и английский... ну... это еще время терпит. А уменье читать и писать — это искусство, которое он усвоит в месяц, когда придет время и надобность в этом. Придет время учиться, запасаться, копить знания, он выучится и искусству брать их — читать и писать. Это вздор. Теперь ему нужно только здоровье и языки.
— Значит, и по-немецки ему нельзя будет учиться читать? — спросил немец.
— Нет.
— Только разговаривать?
— Только.
Немец ничего не возразил. Француз, рассеянно взглянувший на него во время этого разговора его с отцом, откинулся теперь на спинку кресла и как бы про себя, ни к кому не обращаясь, проговорил: