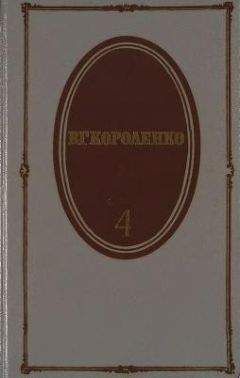Владимир Короленко - Том 7. История моего современника. Книги 3 и 4
IV. Трагедия 1 марта 1881 года. Отказ от присяги
Разразилась потрясающая трагедия русского строя…
Не помню, на второй ли или на третий день пришла в Пермь весть о цареубийстве 1 марта. Утром в этот день я шел, помнится, к Малиновым, чтобы от них пойти на службу, когда на перекрестке двух улиц услышал разговор. Какой-то крестьянин или рабочий из Мотовилихи (пригородный завод), говорил извозчику:
— Чудак! Как же ты говоришь — не твое дело… А кто дал волю?..
Извозчик махнул рукой.
— А по мне, хоть белая береза не расти… Мне все одно…
Придя к Маликову, я понял значение этого разговора… В Петербурге убили Александра II. Самодержавие выродилось в режим исключительно полицейский, все творческие функции великой страны были обращены на одну охрану, но и этого одного выполнить не сумели.
Через некоторое время пришли петербургские газеты… Конечно, скоро цензура наложила запрет на газетные известия, помимо официальных, но одна газета (помнится, «Голос») успела напечатать бесцензурное репортерское сообщение. Надо сказать, что изложение было далеко не точно, даже фантастично. Но тон этой фантазии был характерно мрачный и устрашающий. «Мещанин Рысаков», юноша, как известно, далеко не героического склада, малодушно выдававший товарищей, в этом сообщении принял вид мрачного героя. После первого взрыва, когда Александр II вышел из кареты и перекрестился, сказав: «Слава богу», — Рысаков будто бы возразил:
— Ну, еще слава ли богу!
Вообще все происшествие изображалось в тонах неизбежности и испуга перед мрачной, неумолимой и роковой силой…
Маликов, согласно своим взглядам, отнесся к событию отрицательно. На меня оно произвело впечатление тягостного раздумья: огромный, чреватый последствиями удар, брошенный с какой-то неизбежною роковой слепотою. И прежде всего — жертвы с обеих сторон.
Я еще помнил — хотя это было в детстве — радостное оживление первых годов после освобождения крестьян, вызванное им в лучших элементах общества. Оно продолжалось в 60-х и отчасти в начале 70-х годов. Но скоро оказалось, что Александр II был гораздо ниже начатого им дела и слишком скоро изменил ему. От молодого царя, произносившего освободительные речи, к концу семидесятых годов остался жалкий, раскаивающийся и испуганный реакционер, говоривший с высоты престола: «Домовладельцы, смотрите за своими дворниками».
Близко видеть его мне пришлось только один раз, совершенно случайно, но этот случай произвел на меня незабываемое впечатление. Это было вскоре после русско-турецкой войны. Я шел с Верой Зосимовной Поповой, с которой мы вместе работали в «Новостях», по Загородному проспекту на Гороховую, где была типография этой газеты. Мы оживленно разговаривали и не заметили, что на улицах от Царскосельского вокзала были близко расставлены полицейские, которые делали нам знаки. Мы их тоже заметили не сразу и дошли до середины перекрестка, когда услышали быстрый грохот и увидели открытую царскую коляску, сворачивающую с Царскосельского на Гороховую от вокзала… В одном из седоков я легко узнал царя, но мы остановились уже тогда, когда коляска свернула совсем близко, так, что промчалась, чуть не задев нас. Я был в высоких сапогах, блузе и широкополой шляпе. Моя спутница подстригала волосы. Обе наши фигуры могли показаться типичными, и, конечно, полиция сделала промах, не остановив нас на тротуаре. Теперь нам пришлось несколько отстраниться, и я с любопытством посмотрел на царя, сняв, конечно, шляпу для поклона. Царь сделал под козырек, повернув лицо, когда коляска пронесла его мимо. Меня поразило лицо этого несчастного человека, каким его описал Гаршин в «Записках рядового Иванова». В нем не было уже ничего, напоминавшего величавые портреты. Оно было отекшее, изборожденное морщинами, нездоровое и… несчастное. И когда он повернул голову, чтобы особо поклониться курсистке и студенту, мне показалось в этом что-то нарочитое. Говорили, что он отзывался очень тепло о деятельности курсисток и студентов-санитаров на театре военных действий…
Многое и тогда, и впоследствии глубоко меня возмущало в поведении этого царя в трудные годы борьбы. Говорили, что в нем была фамильная жестокость Романовых. Ни разу не промелькнуло с его стороны желание смягчить суровость казней и репрессий по отношению к своим противникам. Наоборот, он лично увеличил наказания по «большому процессу», где люди и без того понесли слишком суровые кары, допустил несправедливую казнь Лизогуба, беззаконное заключение Чернышевского в Вилюйске… И все-таки из-за этих действий царя, попавшего в руки неумных и злобных сатрапов, в моей памяти вставало жалкое лицо несчастного старика… Так начать и так кончить!..
Большинство нашего пермского кружка разделяло мою рефлексию и не видело причины для особенной радости. Но были и другие чувства. Жена одного ссыльного, человек вообще недурной, выражала злобную радость при мысли об окровавленных ногах царя и об его беспомощной просьбе: «Везите во дворец… Там — умереть».
В то время у меня жил рабочий Башкиров, тоже возвращавшийся на родину по распоряжению лорис-меликовской комиссии. Когда, придя со службы, я сообщил ему новость о цареубийстве, этот дюжий и простодушный человек сразу поднялся на ноги и, инстинктивно повернувшись к иконе, осенил себя широким радостным крестом. Я вспомнил озлобленных ходоков в Починках, вспомнил предсказание Санникова и, наверное, радость этого богобоязненного коренного крестьянина, когда мрачное предсказание сбылось, — вспомнил равнодушие одних, проснувшуюся вражду других… Было ли бы все это, если бы самодержавие, тогда еще очень сильное, продолжало идти путем дальнейших реформ? Скоро стало известно, что Александр II убит в самый день подписания указа о созыве уполномоченных — первого шага к конституции… И, может, думали многие, если бы это было сделано смелее, если бы не боялись открыто выступить, против ненавистной реакции, это удержало бы руку террора…
Это была ошибка — трагедия была глубже и не так легко излечима. Террор созревал в долгие годы бесправия. Наиболее чуткие части русского общества слишком долго дышали воздухом подполья и тюрем, питаясь оторванными от жизни мечтами и ненавистью.
Конституция представлялась только обманом народа.
Среди русской эмиграции был только один орган, отстаивавший необходимость конституции для России. Драгоманов уже тогда, приглядевшись к очень несовершенной австрийской конституции, понял ее значение для политического развития даже славянских народов, которых австрийский режим держал в тени и загоне… Другие русские революционные партии не признавали конституции и шли своими путями, без связи с народом. А такие партии начинают всегда жить своей самостоятельной жизнью, обращаясь в своего рода самодовлеющие политические организмы. Такой самодовлеющей организацией стал и террор. Во мраке подполья он созрел, сосредоточил страшную силу самоотвержения и ненависти и сознавал эту силу в единственном направлении, для которого был пригоден. Усилия и жертвы, принесенные для такого страшного творчества, не легко теряются даром. И террор достиг той наибольшей цели, для которой назначался. Это был акт своего рода революционной инерции, вызванной глубоким недоверием ко всем реформам сверху… И когда он достиг этой непосредственной цели, когда от его руки пал не Мезенцев, не какой-нибудь прокурор или градоначальник, а царь, глава существующего порядка, — перед людьми, отдававшими жизнь для достигнутого успеха, встал вопрос: что же дальше? И тогда оказалось, что в первой же прокламации террористы потребовали введения… конституционной свободы.
Извиняюсь перед читателями за это отступление от чисто повествовательной формы мемуаров. Не могу сказать, чтобы все это я так понимал тогда же и мог бы так изложить в то время, но общее мое представление было именно таково. Когда вскоре после этого судьба опять увлекала меня на далекий север, среди пустынных и холодных берегов Лены в моем воображении стояли два образа и зарисовывались черты поэмы в прозе. Александр II, молодой, одушевленный освободительными планами, и Желябов, его убийца, смотрят с далекой высоты на свою холодную родину и беседуют о далекой трагедии, обратившей их лучшие стремления друг против друга… Когда-то одна правда, хоть в разное время, светила им обоим, но она затерялась во мгле и туманах… И две тени говорят о том, как разыскать ее… Это было очень наивно, и поэма кончалась примечанием какого-то революционера, которому поэма автора, умершего в далекой ссылке, попадает в руки: «Господи боже, какой дикий бред!.. А ведь когда-то наш товарищ был с очень трезвым умом». Теперь я разыскал в старой записной книжке неясные каракули, записанные урывками на станциях коченеющей рукой, и мне они показались своего рода человеческим документом того времени. Может быть, такие мысли приходили в голову и не мне одному…