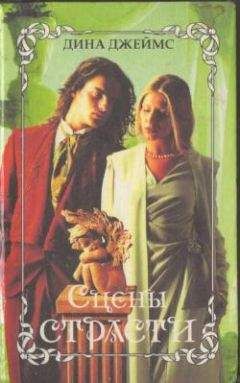Николай Лесков - Божедомы
Бизюкина промолчала.
– Да? – с легким оттенком нетерпения переспросил кумир.
Места долгому раздумью не было.
Данка вздрогнула, как газель, вскинула на Термосёсова свои коричневые глаза и уронила шепотом: да!
– Прелестно, – воскликнул Термосёсов. – Прелестно, душата моя, прелестно! Я от тебя иного ответа и не ожидал. Давай же сюда руки! Давай обе рученьки свои мне. Вот так! Молодчина!
И он взял и крепко сжал в обеих своих руках руки Данки и, тряхнув головою, впился в нее смущающим пристальным взглядом.
Взгляд этот так проницал и смущал Данку, что она, не совладев с собою, пригнула подбородок к груди и опустила глаза на пол.
Вышла долгая пауза, которую Термосёсов не обличал ни малейшего намерения кончить, а между тем положение Данки становилось несносней и несносней. Она решилась наконец заговорить сама.
– Не хотите ли вы чаю? – спросила она робким, смущенным голосом Термосёсова.
– Нет, душа, – отвечал развязно Термосёсов. – Я до чаю не охотник. Я голова не чайная, а я голова отчаянная.
– Так, может быть, закусить и вина? – предложила Данка гораздо смелее.
– Вина? – отвечал Термосёсов. – Вино не чай – вино веселит сердце человека, в вине, говорят, сокрыта правда, но не хочу я и вина.
– Боитесь обнаружить правду? – проговорила Данка, совсем осмеливаясь и пытаясь с улыбкой приподнять вверх свои опущенные взоры.
– Нет; я боюсь, но я не того боюсь: я люблю вино и пью его, но оно мне не по натуре: я не знаю в нем меры.
Данка смело приподняла вверх голову и, взглянув в лицо Термосёсову, с восторгом сказала:
– Боже, как вы в самом деле откровенны!
– Откровенен! Да что ж тебя это удивляет?
Данка промолчала.
– Удивляет? – переспросил, встряхнув руки ее в своих руках, Термосёсов.
– Конечно, – отвечала Данка, все более и более чувствующая, что с Термосёсовым жантильничать и миндальничать не приходится.
– Да чего же мне хитрить? что мне скрывать? Я сыт, одет, обут, здоров и всем доволен, а впредь уповаю на всевышнего создателя и глупоту непроходимую моих соотечественников, – чего же мне и с кем хитрить и кого бояться? Я всем доволен, никого не боюсь и потому и прям и откровенен.
– Я признаюсь вам…
– Признайся, признайся. Я все равно, что поп: мне во всем признавайся. Я все прощу: меня полюби, и грехи все простятся!
– Нет, кроме шуток…
– Да и валяй, кроме всех шуток, признавайся!
– Я никогда не встречала такого человека, который…
– Который бы что?
– Который был бы так счастлив и доволен всем окружающим так, как вы.
– А недовольные, брат, теперь к черту, в помойную яму к Каткову, в его собрание редкостей. Недовольные в дыру, яму, а мы ропс-лопс-хлопс, и наверх, а там уж наше дело. А? что? Поняла? Ничего не поняла? Эх, вы! Потемнели вы тут совсем, хорошие книжки-то свои читая! Чем вы недовольны-то? чего вам недостает? чего мало? Нуте-ка, нуте: чем вы, милые дети, недовольны? Что десятка два-три красных петушков у вас взяли, – этим что ль? Эко горе какое! Народится их новых, не бойтесь. А вы не хнычьте по петухам… Пропали, ну и пропали, ну и нечего с тем делать; а вы дух времени разумейте: наша взяла! Мы господа положенья.
– Нигде я этого не вижу, – сказала, осматриваясь, Данка.
– Да где же тебе это хочется видеть?
– Да нигде, и ни в чем я не вижу этого.
– Да негде тебе этого и видеть в этой мурье.
– Ну… я читаю, однако, – не без чувства задетого самолюбия ответила Данка.
– Чит-т-аешь! – протянул Термосёсов. – Да; ну… читай, если есть охота читать. Но и там ты, все то же увидишь и в литературе, если захочешь вникать. Некрасов, уж какой хныкало был, – а хныкает он нынче? – Нет; он нынче не хныкает. Нечего хныкать, – надоели эти хныкалы.
– Да, но есть люди, которые в опасном положении.
– Что за такие опасные положения? Кто вам наговорил про весь этот вздор? Ох уж эти мне литературщики, литературщики! Вздор это все: нет теперь никакого опасного положения для умных людей, потому что умный человек прежде всего должен служить, должен быть во власти. Если кому нравится враждовать с начальством, – это не наш. Пусть патриоты становятся в опасные положения. Ну и отлично! и скатертью им дорога. Это их и дело. Недовольны? – пусть заявляют, чем недовольны: мы им дорогу-то сыщем. Эх вы, слепыши, слепыши! Нынче, дружок, все это иначе. Постные рожи не нравятся, и прочь постную рожу и прочь вериги страданья: Питер любит тех, которые им довольны. Мы много довольны вашей милостью, господин Piter! Ха-ха-ха! Ах ты опять литература, литература! Не проспать вины своей этим нашим ярым писателям. Насеяли, черти, семян: теперь что шаг, то заблуждение. Отлучай от этих опасных положений, от этих якшательств с поляками… Просто мусору наволокли, расчищая tabula rasa![19] Поляки! Немцев ругали, а с поляками амуры!.. Что такое поляки? – славянский хлам, революционеры, которые целый век в собственной крови и сами купаются, и нас купают… Эко, какой умный народ нашли! Идите по его стопам: веревок на петли для вас на Руси на всех хватит, да и Сибирь просторна. А немцы, которых вы с простоты-то своей ругаете… Они недаром нам учителями нарицаются. Не только нам у них надо учиться, а иные уж и поляки-то ваши хваленые по их следам пошли. Не надо этих ссор с начальством по старой польской системе. Немцы не ссорятся с властями и всего зато и достигают, и молодчины! Мы вот всего каких-нибудь два-три года от “Что делать?”-то на настоящее дело оглянулись, да по-немецки за ум взялись, а и у нас уже везде есть свои люди, и теперь тронь нас, – мы сами в рыло дадим, а не хныкать станем. Что тебе лучше нравится-то: самому развернуться да хорошенько благоприятеля съездить или визжать, что “я, мол, в опасном положении”?
– Разумеется, – проговорила неотчетливо Данка.
– То-то и есть, что разумеется, но и то надо знать, как дать. И в рыло съезжать надо не по-польски с гаку, с храпом, да с свистом, а по-немецки, – “на законном основании”. Поняла?
– Поняла, – отвечала Данка.
– Поняла! Ничего ты не поняла.
– Нет, поняла.
– Ну так чем же вы недовольны, чего вы Лазаря-то поете, если ты это поняла?
Данка промолчала.
– Смейтесь, играйте, ликуйте, раститеся, плодитеся и множитеся; населяйте землю и обладайте ею: сие есть на вас мое термосёсовское благословение! Ты мне нравишься: ты бойкий бабенец, бойкий, все поймешь, и я хочу, чтобы ты все понимала… Э! да тебе и недалеко доходить: ты сама монархистка! – заключил он с улыбкой, рассматривая у себя перед самым лицом ее руки.
– Я не монархистка! – торопливо воскликнула, испугавшись, Данка.
– Да; не отпирайся. По ком ты этот траур носишь: по японскому Микадо или по Максимилиану мексиканскому?
– Я? Траур? Какой траур ношу я?
– А вот этот, – отвечал Термосёсов, указывая на черные полосы за ее ногтями.
Данка вспыхнула до ушей и готова была расплакаться. У нее всегда были безукоризненно чистые ногти, а она нарочно приложила, чтобы заслужить похвалу, а между тем это стыд и больше ничего как стыд.
– Да я вовсе и не монархистка! – кое-как проговорила Данка, не зная, что она говорит, и стараясь вырвать у Термосёсова свои руки.
– Врешь! Вот тебе, не знаю. Бог знает чем готов отвечать, что врешь, – отвечал Термосёсов.
– Почему вы так думаете? – продолжала, высвобождая руки, Данка.
– Почему думаю? Да потому думаю, что вижу, что ты умная женщина. Кто же ты такая? Республиканка, стало быть? Перестань, брат! – Какая такая республика возможна в России? Народ вместо “республика”-то прочитает ненароком “режь публику”, да нас же с тобой и поприкончит. Это тоже старо… рутина, да и ни на что это и не нужно. Нам все равно, что фригийский колпак, что Мономахова шапка, – абы мы были целы. Поняла?
– Да.
– Что же ты поняла?
Данка затруднялась и, подумав, ответила:
– Я одного только не понимаю.
– Чего?.. Чего не понимаешь – говори прямо: не понимаю.
– Я не понимаю… когда вы говорите мы, от лица какой же вы партии говорите?
– От какой партии? – В России нет партий, а есть умные люди и есть глупые люди: я от умных людей говорю.
– Но этак нет ничего целого… Этак и скликнуться нельзя.
– Скликнуться? Ну, брат, это старо, – мы и сами ноне на перекличку своих не сзываем, а чувствуем своих, чувствуем. У нас есть такие, которым с нами на перекличку ходить и нельзя: мы их и не требуем и без пароля их знаем. Что их беспокоить: они и так свое дело делают. Всякие, брат, у нас нынче есть, всякие, и слесаря, и цензора, и шильники, и мыльники, и те, что в Бога не веруют, и те, которые в него веруют, и народники и аристократы: свой своему отовсюду весть подает.
Эх, ты, Дана, Дана: заплесневела ты здесь с книжками, но стану я тебя учить, из тебя не женщина, а черт выйдет! Ничего что ты говоришь, что ты республиканка: осторожность – это хорошо. В ваших медвежьих углах ведь и взаправду не знать, как и рекомендовать себя; но послушай меня: брось это все республиканство! Хочешь, я тебе всей царской фамилии фотографические карточки подарю?