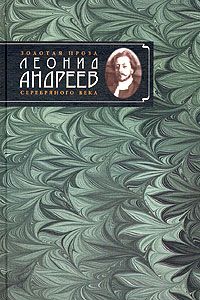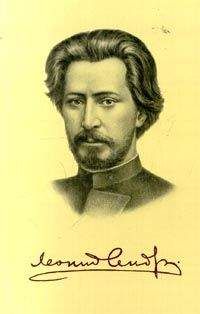Леонид Андреев - Сашка Жегулёв
Не поскупилась смерть на убранство для Сашки Жегулева.
Весь день и всю ночь до рассвета вспыхивала землянка огнями выстрелов, трещала, как сырой хворост на огне. Стреляли из землянки и залпами и в одиночку, на страшный выбор: уже много было убитых и раненых, и сам пристав, командовавший отрядом, получил легкую рану в плечо. Залпами и в одиночку стреляли и в землянку, и все казалось, что промахиваются, и нельзя было понять, сколько там людей. Потом, на рассвете, сразу все смолкло в землянке и долго молчало, не отвечая ни на выстрелы, ни на предложение сдаться.
— Хитрят! — говорил пристав, бледный от потери крови, от боли в ране, от бессонной и мучительной ночи.
Высокий, костлявый, с большой, но неровной по краям черной бородою, был он похож на Колесникова и, несмотря на револьвер в руке и на полувоенную форму, вид имел мирный и расстроенный.
— Пожалуй, что и хитрят! — отвечал молодой, но водянисто-толстый и равнодушный подпоручик в летнем, несмотря на прохладу, кителе: жалко было портить более дорогое сукно.
— Как же тогда быть? — недоумевал пристав, морщась от боли. — Еще пострелять?.. Видно, уж так. Постреляйте еще, голубчик!
— Павленков отошел, ваше благородие, — доложил солдат.
— Ах, негодяи! — возмутился пристав. — Жарьте их в хвост и гриву… негодяи!
Постреляли и еще, пока не стало совсем убедительным ровное молчание; вошли наконец в страшную землянку и нашли четверых убитых: остальные, видимо, успели скрыться в ночной темноте. Один из четверых, худой, рыжеватый мужик с тонкими губами, еще дышал, похрипывал, точно во сне, но тут же и отошел.
— Говорил, убегут, вот и убежали! Надо же было целую ночь… эх! — страдальчески горячился пристав, наступая на толстого, равнодушно разводящего руками офицера. — Выволоките их сюда!
Трупы выволокли и разложили в ряд на месте от давнишнего костра. Пристав, наклонившись и придерживая здоровой рукой больную, близоруко осмотрел убитых и, хоть уже достаточно светло было, ничего не мог понять.
— Ну, конечно, — бормотал он, — ну, конечно, Жегулева-то и нет! Благодарю, значит, покорно: опять бегай по уезду и ищи. Эх!
— А этот не подойдет? — спросил офицер и слегка ткнул ногой один из трупов.
— Вы полагаете? — усомнился пристав. — Посмотрим, посмотрим!
В обезображенном лице, с выбитыми пулей передними зубами и разорванной щекой, трудно было признать Жегулева; но было что-то городское, чистоплотное в одежде и тонких, хотя и черных, но сохранившихся руках, выделявшее его из немой компании других мертвецов, — да и просто был он значительнее других.
— Если не убежал, то, пожалуй, и этот, — соображал пристав, переходя от надежды к сомнению.
Из разорванной щеки белели уцелевшие зубы, словно улыбался насмешливо убитый, — и вдруг вспылил мирный пристав.
— Смеешься, подлец? Посмейся, посмейся! — Но было бесцельно грозить мертвому, и, обернувшись, пристав закричал: — Егорку сюда! Где Егорка? Спрятался, сукин сын!
Пришел действительно прятавшийся Егорка и стал боком, стараясь не глядеть на трупы.
— Ты куда спрятался, а? Как до тебя дело, так ты в кусты?
— Покойников я боюсь.
— Покойников боишься, а разбойничать не боишься?! Я-т тебя!.. Признавай, подлец, Жегулева.
Егорка наскоро, точно купаясь в холодной воде, обежал глазами убитых и ткнул пальцем на Жегулева:
— Этот самый.
— Врешь, подлец!
— То не врал, а то врать стану: говорю, этот!
— Обыскать!
Обыскали мертвого, но ничего свидетельствующего о личности не нашли: кожаный потертый портсигар с одной сломанной папиросой, старую, порванную на сгибах карту уезда и кусок бинта для перевязки — может быть, и Жегулев, а может, и не он. В десятке шагов от землянки набрели на золотые, старые с репетицией часы, но выбросил ли их этот или, убегая, обронил другой, более настоящий Сашка Жегулев, решить не могли.
Потом пристав, совсем ослабевший, уехал на перевязку; ушла и рота, захватив своих убитых и раненых, а разбойников на самодельных носилках, а кое-где и волоком, доставили стражники в Каменку для опознания. Прибыл туда другой пристав, здоровый, молодой, сильно надушенный скверными духами, наехало большое и маленькое начальство, набрались любопытные — народу собралось, как на базаре, и сразу вытоптали траву около убитых. По предложению пристава, во всем любившего картинность, убитых стоймя привязали к вбитым в землю четырем колам и придали им боевую позу: каждому в опущенную руку насильственно и с трудом вложили револьвер, предварительно разрядив его.
И издали действительно было похоже на живых и страшных разбойников, глубоко задумавшихся над чем-то своим, разбойничьим, или рассматривавших вытоптанную траву, или собирающихся плясать: колена все время сгибались под тяжестью тела, как ни старались их выпрямить. Но вблизи страшно и невыносимо было смотреть, и уже никого не могли обмануть мертвецы притворной жизнью: бессильно, по-мертвому, клонились вялые, точно похудевшие и удлинившиеся шеи, не держа тяжелой мертвой головы.
Трое суток в бессменном дежурстве стояли над Каменкой мертвецы, угрожая незаряженными револьверами; и по ночам, когда свет костров уравнивал мертвых с живыми, боялись близко подходить к ним и сами охранявшие их стражники. Но так и оставался нерешенным вопрос о личности убитого предводителя: одни из Гнедых говорили, что Жегулев, другие, из страха ли быть замешанными или вправду не узнавая, доказывали, что не он. К тому же, как раз в одну из этих ночей разлилось зарево за лесом, и сразу распространился неведомо откуда слух, что это жжет новые усадьбы Сашка Жегулев.
Собрались на горке мужики без шапок и босиком, смотрели на далекий разгоравшийся пожар и, боясь и стражников и тех четырех, что неподалеку молчали и тоже как будто смотрели на пожар, тихо и зябко перешептывались:
— Вот тебе и поймали!
— Его поймаешь! Ты его здесь пригвоздил, а он на тебе: жгет.
— Чего ж не жечь, когда само горит… Эх, и сапожки хороши у разбойничка, то-то бы погреться. А то, пляши не пляши, нет тебе настоящего ходу.
Говоривший зябко перебрал и топнул ногами, словно и вправду собирался плясать. Тихо засмеялись.
— Поди да сыми.
— Сам поди, а я и тут хорош. Надо быть, у Полыновых горит.
— Сказал! Полыновы вон где, а он: у Полыновых! Полыновых еще погоди.
Засмеялись тихо. Кто-то громко, чтобы слышали стражники, сказал:
— Сам помещик и жгет, для страховки, а на других только слава. В дубье их надо!
Из молчаливой кучки стражников, смотревших на пожар, донесся угрюмый окрик:
— Поговори там! Храбер ты, как темно, а ты днем мне скажи, чтоб морду твою видеть.
— Моя морда запечатанная, ввек тебе ее не увидать!
Уже громко засмеялись, и другой насмешливый голос крикнул стражнику:
— То-то ты не трус! Эй, гляди назад: Жегулев стрелять хочет!
Оглянулись.
В призрачном свете, что бросали на землю красные тучи, словно колыхались четыре столба с привязанными мертвецами. Чернели тенью опущенные лица тех трех, но голова Жегулева была слегка закинута назад, как у коренника, и призрачно светлело лицо, и улыбался слишком большой, разорванный рот с белеющими на стороне зубами.
Так в день, предназначенный теми, кто жил до него и грехами своими обременил русскую землю, — умер позорной и страшной смертью Саша Погодин, юноша благородный и несчастный.
20. Эпилог
На другое утро после визита к губернатору обе женщины вместе отправились искать по городу квартиру, и Елена Петровна, медленно переходя с одной стороны на другую, сама читала билетики на окнах и воротах. И взяли квартирку в центре города, на одной из больших улиц, нарочно там, где ходит и ездит много народу — в нижнем этаже трехэтажного старого дома, три окна на улицу, остальные во двор. Темноватая была квартира, хотя не вешали ни драпри, ни занавесей, и только на уличных, квадратных, глубоких в толстой стене окнах продернули на веревочке короткие занавесочки от прохожих. У этих окон были почему-то мраморные, холодные подоконники, а в одной комнате находился серый мраморный камин, больше похожий на умывальник: по-видимому, предназначалась когда-то квартира для роскоши, или жил в ней сам владелец.
Переехав, начали было расставлять мебель, но на половине бросили, и через два месяца комнаты имели такой же вид, как и в первый день переезда: в передней стояли забитые ящики и сундуки, завернутые в мочалу вешалки — платья вешали на гвоздиках в стене, оставшихся от кого-то прежнего; стоял один сундук и в столовой, и горничная составляла на него грязную посуду во время обеда. Чай пили и обедали вдвоем только на кончике большого стола, и только кончик этот застилался скатертью — словно так велик был Саша, что один занимал всю ту большую голую половину стола. И часто весь день, не убираясь, стоял холодный самовар и грязные чашки: обленилась горничная, увлеченная жизнью большой и людной улицы со многими лавками, только потому и оставалась, что служит у генеральши.