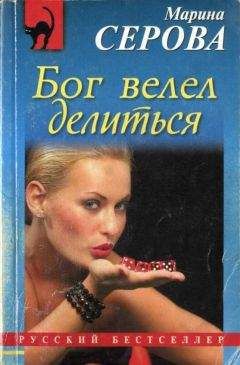Юрий Тынянов - Пушкин
Медлительно влекутся дни мои...
...Пускай умру, но пусть умру любя!
Как он прочел последнюю строку! Кому он писал это? Стихи были, впрочем, прекрасные. И, улыбнувшись, ничего не сказав поэту, только кивнув головой, Карамзин отпустил его дружески. Да! Он боялся сознаться себе, что в Царском Селе он был бы один как перст, не будь здесь этих юнцов. Он кончил на днях предисловие к своему заветному труду - и некому было его прочесть. Тургенев был в хлопотах, давно не показывался. И вот однажды, когда у него сидели дипломат Ломоносов и поэт Пушкин, он улучил миг тишины, лист с предисловием оказался близко, и он прочел им - первым - свое предисловие, свое "верую". И с первой своей фразы, читая, он увидел, что нужны поправки, чего раньше не замечал. "Библия для христиан то же, что для народа история", - он стал читать и остановился, посмотрев на слушателей. О, умные глаза юнцов! Все слова, имеющие смысл высокий и туманный, здесь, в Царском Селе, приобретали свой истинный смысл. "Библия", "христиане" - помилуй бог, да ведь это то же, что сказал бы Голицын, который, верно, теперь сидит здесь неподалеку, во дворце, и, может быть, толкует и о Библии и о христианах. И он, не чинясь, тут же, при молодых, исправил: "История есть священная книга народов". Он читал и поглядывал на Пушкина. "Мы все граждане - в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством: любим его, ибо любим себя. Пусть греки, римляне пленяют воображение: они принадлежат к семейству рода человеческого и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям. Но имя русское имеет для нас особенную прелесть: сердце мое сильнее бьется за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципиона". "...Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество..." Пушкин сидел тихо, и только глаза его, как, бывало, у матери его, "прекрасной креолки", которую уже не раз вспомнил историограф, загорались и гасли, говорили. Тишина была такая, точно они не дышали. Да, это был его слушатель истинный, для которого он сидел в этой птичьей клетке, красивой китайской хижине. И когда он, кончив, захотел припомнить еще раз первую страницу, Пушкин быстро прочел ему - по памяти. И в первый раз за все это время, когда приходилось униженно ждать высочайшего приема, приходилось скрывать от жены тоску, пустоту, старость, приходилось улыбаться, - стареющий писатель почувствовал счастье. Он встал и, пройдя мимо Пушкина, коснулся руки его. За дверью он отер слезы. И он прочел этому юному забредшему к нему поэту лист, лежавший у него на коленях для сличения с примечаниями, - о златом беспечном времени, о пирах Владимира, которого народ прозвал Солнцем, - как Владимир приказал сварить триста варь меду и восемь дней праздновал с боярами в Василеве и как они упились крепким медом. "С того времени, - прочел он Пушкину, - сей князь всякую неделю угощал в {гриднице} бояр, гридней, сотников, десятских и людей именитых или нарочитых". Пушкин рассеянно скользил взглядом по комнате, и вдруг оказалось, что он ищет карандаш и бумагу. Увидя их на столе, он тотчас ими завладел, стал грызть карандаш (дурная привычка), отрывисто спросил, что такое гридница, что такое гридня, и, получив ответ, что гридница - род дворцовой прихожей, а гридня - княжеский меченосец, записал и стал покусывать губы (хорошо же его воспитал Сергей Львович!). Карамзин забавлялся и, впрочем, после этих вопросов внес объяснения в текст, ибо не всякий может спросить, читая книгу. - Вот бы и написали поэмку, в старом роде, шутливую, пристойную и изящную. Но Пушкин смотрел мимо него, а на совет Карамзина сморщил нос. Удивительна была своенравность Пушкина - точный Сергей Львович. Может быть, слово "поэмка" не понравилось ему? Но он и сам писал поэмки - "Илью Муромца", например, - и не думал считать этого недостойным. Шутливость, пристойность, изящество - вот что требуется от этого рода - и это вовсе не безделица. С убегающими глазами, Пушкин более его не слушал и грыз карандаш, так что в конце концов Карамзин тихо протянул руку и отнял у него карандаш. Нет, он, кажется, не обиделся, а просто мысли его блуждали. Наконец с ним можно было говорить. Нет, это не Сергей Львович - это блужданье мыслей было иногда и у его матери, la belle creole; он и лицом напоминал ее. И Карамзин попросил поэта прочесть ему что-нибудь новое, новенькое. Пушкин достал листок.
13
В этот год их больше объединяли прогулки, чем уроки. Никто не требовал тишины; дисциплина была забыта безвозвратно, и профессоры заботились только об экзаменах, которые грозили в будущем как лицейским, так равно и им. За черным столом сидел теперь только иногда Мясоедов, который был не только безграмотен, но и груб. Куницын притих, сгорбился. Он стал строг, равнодушно спрашивал у Корфа лекции по тетрадке и поправлял его, если тот что-либо пропускал. Пушкина он никогда не спрашивал по тетрадке, и Пушкин почти никогда не записывал. Но он слушал - его одного из всех профессоров; казалось, он и этот профессор совершенно понимали друг друга. Корф тихо сжимал кулаки из-за этого пристрастия. Только однажды он загорелся, как бывало, когда он объяснял им, что такое общественный договор. - Тираны отменяют его, - сказал он, - а как верховная власть принадлежит народу - договор расторгается с обеих сторон бесповоротно. Он вдруг замолчал, щеки его порозовели. Кюхля скрипел пером, записывая, и чернильные брызги летели во все стороны. И, успокоившись, Куницын тихо попросил записать, что это все относится к племенам давно минувшим. Кюхля положил перо. Теперь прогулки их были ограничены: двор был в Царском Селе. Нельзя было шуметь, а идти нужно было чинно, строем: император любил чинный строй даже у статских и выходил из себя, если замечал непорядочно шагающих. Раз и навсегда молчаливо сговорясь, Пушкин, Дельвиг и Кюхля отсутствовали на прогулке; рука об руку они шли позади всех и спорили о Горации, Руссо, о Парни, деде Шишкове, Шихматове и Шиллере, о женской неверности. Теперь, когда они уже печатались, все они читали все новое - даже Кюхле мать выписала из Москвы старомодный журнал "Амфион", заплатив за него пятнадцать рублей и отказавшись от одной поездки в лицей. Ломоносов завел даже свой особый книжный шкап, у него было двести - триста книг. Будри привозил в лицей Кюхле книги - "Векфильдского священника", над которым Кюхля обливался слезами, Грессе, которого у него сразу же зачитал Пушкин. Кюхля был ярый спорщик, Дельвиг почти всегда был с ним не согласен, Пушкин наслаждался спорами. Каждый оставался при своем. Крайности мнений были удивительные. Так, однажды Кюхля назвал Горация самодовольным светским фатом, педантом вроде Кошанского, и все трое, пораженные, остановились. Другой раз Пушкин, возражая Кюхле, который всюду таскал теперь с собою Гомера по-гречески и пытался его заунывно читать, назвал Гомера болтуном, и они вместе с Дельвигом тихо обрадовались ужасу Кюхли. Теперь, когда Пушкин был арзамасцем, он нетерпеливо слушал Кюхлины похвалы Шихматову-Рифматову и его песнопению о Петре. Как-то Горчаков, который любил стихи легкие и отовсюду их переписывал, показал ему стишки из времен французской революции, где три фамилии осмеивались на все лады:
Vit-on jamais rien de si sot Que Merlin, Basire et Chabot? A t'-on jamais rien vu de pire Que Chabot, Merlin et Basire? Et vit-on rien de plus coquin Que Chabot, Basire et Merlin? (1)
Через час Пушкин прочел Кюхле стихотворение, где осмеивались в том же порядке три князя на букву Ш. Шишков, Шихматов, Шаховской. Шихматов, Шаховской, Шишков. Самые имена членов "Беседы" были созданы для эпиграмм и ложились в стих. Кюхля добивался, кто написал эти стихи, и нашел их, как все, впрочем, эпиграммы, не заслуживающими названия стихов. Теперь, после лекции Куницына о племенах давно минувших, они долго молчали. Они привыкли к истории на прогулках. Пять лет - каждый день они проходили мимо нее - Чесменская ростральная колонна в озере, Кагульский обелиск имели для каждого из - --------------------------------------(1) Видели ли когда-либо таких глупцов, Как Мерлин, Базир и Шабо? Видели ли когда-либо людей отвратительнее, Чем Шабо, Мерлин и Базир? И видели ли когда-либо больших мошенников, Чем Шабо, Базир и Мерлин? (фр.) них свое, особое значение. Это и была, всего вернее, античная древность Дельвига, которую он любил в своих стихах. Проходя мимо холодного Кагульского чугуна, он всегда прикладывал к нему руку и всегда удивлялся холоду под рукою. Кесарь вернулся после победы над Наполеоном в этот дворец - все ждали от него чуда. Теперь то он, то императрица приезжали каждую неделю и оставались дня на три-четыре. Просто у него был досуг между двумя очередными конгрессами Европы. В лицее привыкли к особой, шаткой и торопливой, походке придворных дам, всегда торопившихся куда-то, мимо всех и всего. Потом они несколько раз видели его, пухлого, белокурого, идущего грудью вперед небольшими мерными шагами по аллее. Они знали, что он идет в Баболово, что там во дворце опять назначено у него свидание с молоденькой дочкой коменданта. Горчаков, захлебываясь, рассказывал об этом. Он знал откуда-то решительно все о кесаре: когда он встает, когда молится, с кем обедает, много ли, мало ли говорит с дежурным офицером. Он считал это новостями политическими и сообщал их только избранным. Он знал все новые формы для полков, придуманные кесарем вместе с Аракчеевым. Однажды он рассказал Пушкину, что царь посещает Карамзина, но не дает ему академического кресла и не печатает его истории, для того чтобы не возвышать чрезмерно в чужих глазах, ибо это место уже занято. Карамзин совершил ошибку. Надо было торопиться. Дворец был молчалив, как всегда, сторы почти во всех окнах приспущены. Кто обитал там? Полубог, победитель Наполеона? Полунощный кесарь? Или друг Аракчеева, Голицына с пухлыми боками? Часовые у главной лестницы стояли как статуи, как монументы. Вскоре стало известно, что они в лицее не задержатся: граф Разумовский отдал повеление ускорить их выпуск тремя месяцами - в июне 1817 года "чтоб нашего духу здесь не было", - сказал по-своему, по-казацки, Малиновский. Они стали гадать, кто их выживает. Горчаков неожиданно тонко предположил, что это директор. - Почтенный и любезный директор старается нас поскорее выжить, сказал он, - так как он не может приписать себе чести нашего выпуска, если он будет удачен. Это было встречено, однако, негодованием со стороны Матюшкина; Пущин, который верил директору, тоже возражал и вдруг коротко сказал: - Царь выживает. На робкий вопрос - почему? - Жанно ответил значительно: - Очень шумим. И глазеем.