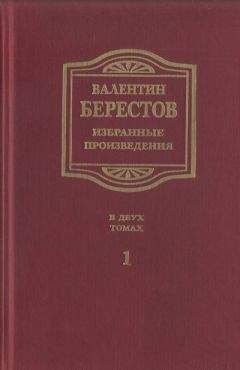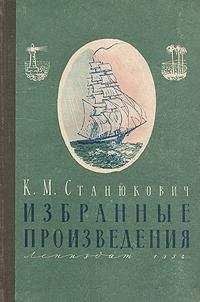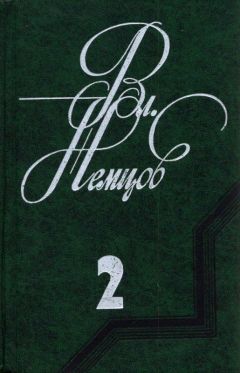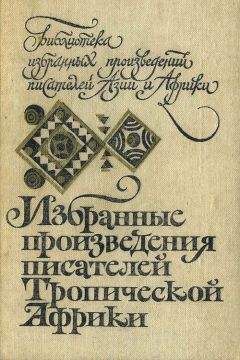Сергей Городецкий - Избранные произведения. Том 2
— Я видел. Вчера к окнам конторы подошла девочка-айсорка — они удивительно красивы — и стала плакать. А кто-то взял и выплеснул ей прямо в лицо целую чернильницу красных чернил.
— Какой мерзавец! — возмущенно сказал Мышонок.
— Тише, он здесь.
— Кто?
— Не все ли равно?
— Довольно секретничать! — закричал неожиданно Боба. — Наш главный врач просит слова.
— Ничего подобного, — сказал волосатый доктор. У него была мягкая бабья фигура, волосатый затылок, отвисающая губа, и все это вместе взятое делало его симпатичным. К тому же он немного заикался. И была у него слабость: он мнил себя оратором.
— Я совсем не хотел говорить, — начал он, — и если я хотел что сказать, так свое особое мнение.
— Просим, просим! — раздались голоса.
Доктор отпил из своего стакана.
— Это, позвольте, что же такое? — запротестовал Боба. — Сначала речь, потом вино, а не наоборот? Прошу всех допить и налить снова полно. Юзька, скорей!
— Мое особое мнение вот какое, — снова начал главный врач. — Вот я живу тут, лечу больных, делаю операции, пью с вами, смотрю на солдат, захожу к военнопленным, и все меня грызет одна мысль: на кой черт все это? Чего мы все тут торчим? Зачем это нужно нам, солдатам, военнопленным, всем?
— Нас не подслушивают? — оглянулся Боба.
— Говорите, говорите! Все свои, — закричал Тинкин. — В вашей идее есть ядро.
— Есть ядро или нет, — подхватил главный врач, — я не знаю. Но ощущение есть. И в массах оно еще сильней, чем у нас. Всех домой тянет! Довольно! За ваше здоровье, господа! За всех нас! Простите, коли не так сказал. А только выход у нас один.
— Один! — звонко повторил Тинкин.
— Какой? — воскликнули несколько человек. На минуту все притихло.
— Революция! — срываясь в голосе, произнес Тинкин, взволнованно достал портсигар и закурил. — Я думаю, Арчил Андреевич со мной согласен.
Батуров захохотал.
— Конечно, конечно, революция! — воскликнул он.
Ослабов посмотрел на его лицо, и вдруг оно показалось ему фальшивым, как будто нагримированным: хохочущая пасть, дико оскаленные зубы, расширяющаяся книзу челюсть, надувшаяся полосатая красная шея, прыгающие уши, белки в покрасневших веках и прямо над бровями, как будто безо лба, спутанная копна черных волос: никак не вязались с этим лицом слова о революции.
А фоном этой голове был совсем посиневший вечерний сад.
— Ваше здоровье! — говорил приветливый, как всегда, Батуров, — Я вам третий раз говорю «ваше здоровье».
— Ваше здоровье! — бледный, охрипнувшим голосом ответил Ослабов. Голова у него кружилась, все качалось перед глазами.
— Революция? — пьяно поднялся Шпакевич. — А знаете ли вы, что такое революция? Это порыв, это восторг, это энтузиазм, это романтизм. Юзька! Ты знаешь, что такое романтизм?
— Никак нет, Бронислав Иванович, — отрапортовал, приставляя ладонь к потному лбу, Юзька.
— Я тоже не знаю. Но пью за него! За романтизм, за революцию, за все опьяняющее, бунтующее я пью, пью, господа. Эх, гитару бы мне! А меня не арестуют завтра? — закончил он, обращаясь к Бобе.
— Зачем завтра? — возразил Боба. — Я тебя сегодня же отправлю под арест, — ишь, надрызгался!
— Ерунда! — раздался немного гнусавый голос Цивеса. — Шпакевич изображает революцию как нашу оргию, как будто вот мы сейчас все, кто есть, пьяные, можем пойти и сделать революцию. Ничего подобного! Революция есть прежде всего механика, точный расчет общественных сил, которые, в свою очередь, являются производными экономических отношений! Это все азбука, господа, и прежде чем говорить о революции, надо эту азбуку выучить. Итак, я пью за младенцев и за азбуку.
Кое-кто засмеялся.
— Это кто младенец? — сердито поднялся Шпакевич, — я младенец? Я, старший контролер, получаю публичное оскорбление? Я должен реагировать. Подать мне сюда Цивеса!
Он, шатаясь, вылез из-за скамейки. Его усадили, он еще долго оскорблялся.
— Товарищ Цивес прав, — сказал, поправляя пенсне, Тинкин, — революцию необходимо мыслить как точно действующую машину. Но это еще не все. У каждой машины есть рычаги. На каждом рычаге должна лежать опытная и уверенная рука. Я хочу сказать, что революционным движением нужно управлять, его надо то усиливать, то ослаблять, его надо вызывать.
— Провоцировать, — подсказал Боба.
— Я этого слова не принимаю, — спокойно сказал Тинкин, — и считаю это выступление образцом провокации, которой я не поддаюсь.
— Съел? — спросил пьяный Шпакевич такого же Бобу. Они наклонились друг к другу и слиплись щеками.
— Мра-вал-жамиэр, — затянул кто-то.
Подхватили, спели.
Тинкин выждал, стоя с бокалом в руке.
— Виноват, я еще не кончил, — сказал он.
Батуров постучал ножом по тарелке.
— В словах Шпакевича была доля правды. И вот какая. Вызывая революцию, мы должны быть готовы к взрыву всех котлов. Это и есть романтика революции. Но, господа, романтики здесь не нужны. Нужны холодные, расчетливые умы. Они будут вождями. За хладнокровие и расчет, господа!
— Не хочу! — неожиданно для самого себя сказал Ослабов. Все обернулись. Он стоял у стены, высоко поднимая руку со стаканом, угловатый и протестующий. — Я не хочу такой механической революции, совершенно не хочу.
— А какой хотите? — спросил Тинкин таким тоном, как будто у него был выбор революций на всякий вкус.
— Я не знаю. Без взрыва котлов… Чтобы все сразу поняли. И сразу все переменилось, — тихо сказал Ослабов.
— Так не бывает, — серьезно ответил Тинкин. — Так никогда не было.
Вмешался Юзька.
— Я насчет нашего разговора вам вот что скажу. Конечно, ничего сразу не бывает. Это факт.
— Брось, Юзька! — дернул за руку Юзьку Боба.
— Зачем брось! — поднялся, опираясь на плечо Бобе, Шпакевич, — я такого же мнения. И мне все трын-трава. Городовой стоит — я слушаюсь. А прогони ты мне городового, так я так разгуляюсь, что все затрещит. Вот вы тут сидите и думаете, что вы левые. Наплевать мне на вас! Я еще левее. Я сам собой — и никого больше!
Он махал рукой в воздухе, усы его и пробор растрепались. Юзька и Боба пытались его усадить, и все трое рухнули, сцепившись, на скамейку. Ослабов, сидя на углу стола, между незнакомыми, автоматически наблюдал, как хан ест шашлык. Он брал пальцами кусок, надевал его с трудом глубоко на вилку и двумя руками нес вилку ко рту, запихивая ее, и, захватив кусок зубами, вырывал вилку. Ослабов любил в опьянении эту способность видеть все зыбким и прозрачным. Но сейчас, кроме приятного головокружения, он ощущал предчувствие какой-то окончательной потери равновесия, как бы приближение вихря. Эти пьяные люди дурманили его своим видом больше, чем вино. Движущиеся рты, глаза, носы, растопыренные пальцы, мелькавшие между головами, — весь этот анатомический, рассыпавшийся на куски материал был ему бесконечно отвратителен. Минутами ему казалось, что нос Юзьки сполз со своего места и поплыл на щеки Шпакевича и покрыл собою довольно приличный нос Шпакевича. Получилась новая смешная маска. Черные, короткие усы Бобы вдруг перепрыгнули на нежное лицо Мышонка, от чего оно стало совсем звериным. Так же путались прически, руки, плечи. Из шелковых рукавчиков докторши вместо ее маленьких ручек вдруг высовывались Юзькины красные лапы. Фигуры и лица распухали, набухали, расплывались по комнате. Две большие лампы, стоявшие в нишах, и свечи на столе горели все тусклее. Уже во многих местах окровянилась пролитым вином скатерть, а Юзька все наполнял и наполнял кувшины. Вдруг сильно постучали в окно с балкона. Ослабов открыл дверь. На пороге стоял, ухмыляясь, Ванька, красный, большеротый, с белыми деснами.
— Пьете? — сказал он.
— Пьем, — как паролем, ответил Ослабов. — Входи.
— Нет, уж вы мне поднесите здесь.
Ослабов шепнул Юзьке, и тотчас на балконе образовалась маленькая компания, решившая повторить водку. Вскоре началась там пляска под плесканье ладоней. Один за другим выходили плясуны на балкон плясать наурскую. Вытаптывали и вырабатывали друг перед другом мельчайшие па и уходили в круг. Новые заменяли их. А в комнате распелись: «Аллаверды», «Олег», «Стенька Разин» следовали друг за другом. Пир разгорелся. Синяя ночь давно уже повела звезды по небу. Час уходил за часом, и времени никто не чувствовал. Безобразная женщина, немолодая, в заношенном платье, истерически декламировала какие-то стихи.
— Кто она? — спросил Ослабов Юзьку.
— Сестра. Сошла с ума на фронте. Когда не пьяна, не буянит. Только все ходит из угла в угол.
Совсем пьяный Юзька все же соблюдал какую-то торжественность, расшаркивался перед всеми и ежеминутно извинялся.
— Спляшем и мы! — вдруг сказал Ванька.
И они пустились вдвоем.
Неизвестно, что это был за танец. То вприсядку, то впрямь, то врозь, то обнявшись, с вытаращенными друг на друга глазами они протопали земляной пол до балок и вдруг провалились по пояс в образовавшуюся под их ногами дыру. Общий хохот приветствовал этот финал.