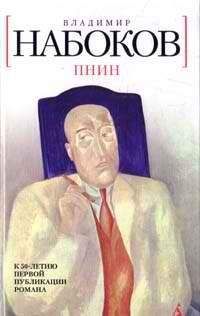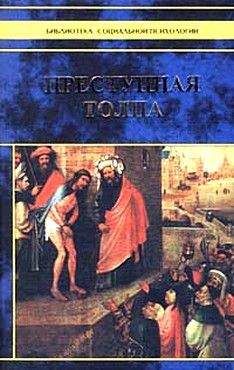Владимир Набоков - Пнин
Едва заметные сдвиги, слабые толчки и легкое дрожание стекол в первой половине Пнина сказываются в нечастых и нежданных вторжениях повествователя в пространство повести; чем дальше в лес, тем они делаются более явными и настойчивыми, особенно в пятой главе, когда Пнин и Шато говорят о N., и в шестой (тема двойника, начинающаяся фразой «мы с Пниным давно примирились с тем…», и уже приведенное наблюдение Джоаны Клементс о художественной манере N.). Но землетрясение в последней главе не только разрушает некоторые к тому времени уже установившиеся ходы, но по многим признакам совершенно преобразует всю местность романа. Однажды прочитав его, серьезный читатель уже никогда не сможет перечитывать, например, сцены «погружения в прошлое» (когда Пнин как бы проваливается под лед настоящего вглубь прошедшего) с тем же ощущением доверия, которое подразумевается и даром дается в обычных романах. Одно дело сознавать, что N. пользуется этими приступами Пнина, или лучше сказать навождениями (которые он сам на него и наводит), как удобным средством снабжать читателя сведениями о своем герое, как это происходит в нечетных главах (1-й, 3-й, и 5-й), прибегая к заурядным «объективным» ретирадам в прошлое-удаленное в главах четных; но совершенно ведь иное дело открыть для себя при перечитывании этих глав, что, во-первых, очерчивая границы своей осведомленности, повествователь косвенно признается в том, что вынужден был сочинить некоторые эпизоды – например детскую болезнь Пнина, его любовь к Мирре Белочкиной или воспоминания о родителях, всплывающие в каждой нечетной главе; во-вторых, что его герой не признает даже и тех эпизодов своей жизни, которые N. описывает, как-будто полагаясь на свою память, а не на воображение, и что он возмущен тем, что N. подделывает его прошлое; в-третьих, что повествователь оказывается весьма неприглядным человеком, высокомерным даже до спеси, холодным, немилосердным, «злым выдумщиком»; наконец, в-четвертых, что он прекрасно сознает неустранимость таких подозрений, возникающих при повторном чтении, учитывает их и, более того, включает их в какой-то далеко ведущий общий план всего романа как составную часть его философской подоплеки!
Нельзя с самого начала книги не видеть, что N. нарочно оставляет явные признаки своего присутствия и самовластного правления. То тут, то там встречаются ремарки как-будто в сторону, а на самом деле прямо в лицо бодрствующего читателя: «Тут уж я его врач» (сказано перед тем, как с Пниным случается его первый в книге странный припадок, порождающий караван воспоминаний); «Не думаю, что он кого-нибудь любит» (о Викторе Винде), «О, невнимательный читатель», подталкивая внимательного к легкому решению задачи, которое, однако, оказывается с изъяном{34}, и множество других подобных вторжений и прямых обращений. Кроме того, персона N. видна и в тематической оркестровке сюжета. Несколько раз в ходе своего повествования N. показывает, как Пнин, доведенный едва не до отчаяния, подходит чрезвычайно близко к решению загадки своего бытия, но когда остается только руку протянуть, чтобы схватить наконец «ключ к чертежу», спрятанный «злым чертежником… с такой неимоверной тщательностью», ключ вдруг превращается в белку или в гирлянду из рододендронов, волнующихся на ветру, которые не только не размывают «удобопонятного рисунка некогда окружавших Тимофея Пнина вещей», но, напротив, послушно обнаруживают, неведомо для бедного Пнина, тот самый строгий, рассчитанный чертеж, который он ищет (и белка, и рододендроны были в его петербургской квартире и появляются на важнейших перекрестках его жизни в романе). По рассчету N., Пнину вручается искомый ключ, но он безучастно на него глядит, вертит в руках и бросает, пожав плечами, не узнавая его – ибо нельзя ни понимать, ни тем более видеть рисунка, которого ты сам составная часть.
Набоков об этом именно говорит в своей лекции о Прусте:
Изыскания утраченного времени предполагают воспроизведение, а не описание прошлого… Это воспроизведение… достигается путем высвечивания некоторых тонко отобранных эпизодов, которые составляют цепочки иллюстраций или образов… Ключ к задаче восстановления прошлого оказывается ключом искусства вообще{35}.
Сложно-сплетенная композиция «Пнина» ставит – а способ, которым она обнаруживает себя, подчеркивает и углубляет – основную дилемму, которой читателю приходится серьезно заниматься прежде всех прочих. Невозможно же не задаваться вопросом, особенно при первом чтении, N. ли выдумал прошлое Пнина, Пнин ли не может узнать его из-под пера N. В своей французской речи о Пушкине Набоков предлагает два тезиса, которые как-будто приложимы и к его собственной художественной системе:
Возможно ли вообразить чужую жизнь в полноте ее действительности, прожить ее в уме и неповрежденной изложить на бумаге? Сомневаюсь; мне даже кажется соблазнительной мысль, что сама мысль, высвечивая историю человеческой жизни, не может ее не деформировать. Поэтому воспринимаемое нами мысленно оказывается не правдою, но правдоподобием… Что с того, в конце концов, что воспринимаемое нами есть лишь колоссальный розыгрыш? Будем откровенны и признаемся, что если бы мы могли поворотить вспять и прокрасться в пушкинский век, мы бы его не узнали. Так что же! Ведь мы при этом испытываем такое удовольствие, что и самая безжалостная критика (в том числе и та, которой я сам себя подвергаю) не способна его уничтожить.
Затем Набоков быстрым шагом проводит по сцене несколько правдоподобных моделей Пушкина – смеющихся, топающих ногой, иных даже верхом, и потом закрывает этот парад и объявляет:
Я очень хорошо знаю, что это не настоящий Пушкин, но актеришка третьего сорта, которому я плачу за его игру. Что ж с того! Этот обман меня забавляет, и я нет-нет и забываюсь, и начинаю сам ему верить… Образы эти, вероятно, фальшивы, и настоящий Пушкин в них не узнал бы себя. И, однако, если я вливаю в них немного той любви, которую ощущаю, читая его стихи, не сродни ли несколько то, что я произвожу с его воображаемой жизнью, труду поэта – раз уж не самому поэту?{36}
Тема несогласуемого прошлого охватывает весь роман и вместе пронизывает его насквозь, и однако в его пределах кажется невозможным указать причину этого несогласия и даже измерить величину искажения. Эта основная антиномия (тезис N. против антитезиса Пнина) осложнена еще и тем, что читатель вынужден считаться с версией Коккереля, побочного повествователя анекдотов из жизни Пнина, иные из которых совершенно новые, иные же продолжают уже известные. Но вследствие того, что некоторые из них противоречат изложению N. тех же самых событий (настолько, что однажды N. даже находит нужным выразить некоторое сомнение в их достоверности{37}), они все оказываются на подозрении. В лучшем случае они кажутся грубыми преувеличениями, в худшем – остроумными выдумками. Здесь нужно не упустить из виду обратную причинную связь: несмотря на то, что истории Коккереля подаются в самом конце, они, конечно, редактированы N. прежде, чем он разместил их в книге, в главах, предшествующих седьмой, но хронологически от нее отправляющихся и от нее зависимых.
Джэк Коккерель представляет Пнина «восхитительно смешно», но при этом у N. от этого представления остается «в душе такое ощущение, которое соответствует дурному вкусу во рту»; начинающий же читатель остается в недоумении. Пнин въезжает в книгу «не на том» поезде и выезжает из нее в плюгавом автомобильчике, но последняя фраза романа, принадлежащая Коккерелю, снова сажает читателя на «не тот» поезд. Выдумал ли Коккерель все это происшествие в Кремоне или только приукрасил его для вящего эффекта, утрируя, по своему обыкновению, жесты Пнина и его английские ошибки? Или, может быть, N. пощадил своего героя и предотвратил окончательную катастрофу (Пнин, в изложении Коккереля, уже стоя за кафедрой, обнаруживает, что у него в руках «не та» лекция), изменив конец версии Коккереля, и, несмотря на свое отвращение к счастливым развязкам, засунул в сюртук Пнина все три рукописи, в том числе и текст лекции, с тем чтобы ему всегда иметь под рукой ту, что могла понадобиться, «таким образом математически-безусловно предупреждая возможность несчастного случая»?
Ставить такие вопросы, повторяю, необходимо, но внутри романа на них ответа не найти. В конце концов, N. и сам всего лишь действующее лицо «Пнина», лицо, конечно, очень важное, но тем не менее составная часть общего рисунка. Часть же рисунка не может видеть рисунка, хотя может подозревать о его существовании, может в него верить. Его представление о мире, в котором он живет, не имеет никакого особенного преимущества перед Пниным, другим обитателем того же мира, его соотечественником в местном и переносном смыслах слова.
N. написал превосходную и правдоподобную историю Пнина в шести главах, но в седьмой у читателя создается престранное ощущение зыбкости всей этой истории, словно по мере того, как Пниниана Коккереля делается все более оскомистой и вычурной, уже привычный образ Пнина, с его естественно лысой головой и искуственно загоревшей кожей, полусмешной, полупечальный, – вдруг размывается, меркнет, перемещается в тень и становится неузнаваемым – в тень той самой неизвестности, из которой он появляется в первом предложении первой главы книги. Здесь, в последней, подталкиваемый волшебной палочкой N., читатель начинает сомневаться в достоинстве собранных и усвоенных сведений, ибо источник их сделался сомнителен. Эксцентрический клоун из фарса Коккереля, усевшись на другой конец качельной доски, уравновесил короля-изгнанника из героической фантазии Виктора, – и оба они равно удалены от того подлинного, как казалось, образа Пнина, который мы составили к тому времени и с растущей симпатией узнавали от главы к главе. Теперь этому конец{38}. Теперь его черты расплываются, как чернила на плохой бумаге, его настоящие свойства оказываются неизвестны. Причем эта опытом доставшаяся неизвестность тяжелее той невинной, с которой естественно начинается всякое чтение. Эта новая неизвестность, обретенная в конце книги, не находит себе разрешения. Ведь самые эти сомнительные сведения, почерпнутые в заключительной главе и бросающие такой неверный, странный, отчуждающий свет на все предшествующее повествование, тоже могут быть заподозрены в недостоверности, коль скоро они получены от все того же N., то есть посредством того же сомнительного информационного агентства.