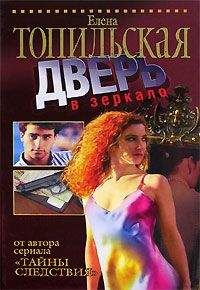Владимир Короленко - Том 9. Публицистика
В уездах эта сущность выступала без всяких прикрас, без всякой просвещенности и «либерализма».
Быть может, самой заметною чертой нашего строя следует признать пренебрежение к знанию и науке, ко всякой теории и правильному обобщению, ко всему, что только выдвигается из уровня так называемой «практики», в ее сыром и самом непосредственном виде. Просмотрите консервативные газеты того времени, и вы будете удивлены обилием практических псевдонимов. Практический человек и практический хозяин, истинно-практический человек и истинно-практический хозяин, наконец, истинно-практический и вдобавок еще русский человек и таковой же хозяин!.. Сторонитесь перед практическим человеком, потому что он свободен от европейских теорий и пренебрег все законы — вот главный лозунг этого отряда, заполняющего прессу и выступающего на завоевание современности. Большего ругательства, как человек «теории или науки», для них не существует, но при этом каждый из них непременно несет свою собственную теорию, только эта теория «практичная». Правда также, что эта практичная теория тотчас же и на тех же столбцах сталкивается неизбежно с другою теорией, уже истинно-практичной, и обе они подвергаются натиску со стороны третьей, — истинно-практичной и русской, вооруженной всеми эпитетами, которые должны ей доставить победу и одоление… Хаос получается, конечно, необычайный, но столичный читатель улыбается и проходит мимо. В самом деле, ведь это кажется так невинно: если эти забавные практики опровергают друг друга, то очевидно, что общее им всем притязание на немедленную ломку всего существующего во имя их собственных теорий никоим образом не может подлежать удовлетворению.
Но это вам только так кажется, читатель! А мы-то, провинциалы, имеем всех этих практичных и истинно-практичных господ в натуре, и то, что вам представляется забавной игрой в доморощенные теории, — мы воспринимаем со всею непосредственностью практики. «В моем уезде я делаю то-то и так-то», — вот в каком виде является нам эта истинно-практичная мудрость. Сведенные даже на газетном столбце, эти мудрости уже поедаются взаимно. Ну, а в моем уезде, моя мудрость царит на всей своей воле, и ничто не может противостоять ее творческой силе, пока уезд этот — мой, и пока для меня закон имеет лишь силу просто какого-то чужого теоретического соображения… Разумеется, трудно требовать, чтобы я отдал чужим теоретическим соображениям (хотя бы даже ясно выраженным в законе) предпочтительное внимание перед своими.
Прекрасную иллюстрацию к сказанному представляет, например, тот же Васильский уезд, первый носитель продовольственной диктатуры. У Васильского уезда тоже оказались свои «практики», а у этих практиков оказалась своя собственная, очень законченная и цельная «теория» или даже вернее — система. Васильский предводитель дворянства, П. П. Зубов, как мы уже видели, распределил первые партии отпущенного правительством хлеба. На несколько дней он стал даже «знаменитостью голодного года». Это случилось после того, как, по указанию ген. Баранова, усадьбу г. Зубова посетил корреспондент «Нового времени», С. Ф. Шарапов. Господин Шарапов пробыл у господина Зубова двое суток и затем с присущей ему экспансивностью оповестил на всю Россию, что в помещичьей усадьбе Васильского уезда он открыл истинно-государственный ум, «живое звено, связующее над Сурой Русь земскую с Русью государственной». «Пустых разговоров, — писал автор, — у нас не было, ибо я, как пчела, тянул из него один мед», то есть это г. Шарапов тянул из г. Зубова чистейший мед государственной мудрости, и его затрудняло одно: «как в границах краткого письма представить хоть бледные отрывки этого яркого, дельного русского мировоззрения»[41]. Опасение не напрасное, так как, действительно, на протяжении всего не особенно даже короткого письма, кроме затасканной идеи о замене денежного продовольственного капитала «натуральными запасами», ничего больше читатели не нашли. Теории господина Зубова в печати, даже в ярком изложении Шарапова, оказались убогой банальностью… Тем не менее, «дельное, яркое, истинно русское мировоззрение» г. Зубова сказалось в заседаниях продовольственной комиссии и с достаточной полнотой напечатано в ее протоколах.
Что же несла с собой эта знаменитая система?
Прежде всего по части обсеменения полей она провозглашала замену остальных хлебов просом! — Отчего мы обеднели? На этот вопрос еще не так давно древние практически мудрые старцы отвечали: оттого, что перестали считать деньги на ассигнации. Оно и понятно: денег тогда на счету было больше, а теперь стало менее. А в чем же богатство, как не в обилии денег? Отчего у нас неурожаи? — спрашивает автор васильского проекта и отвечает: оттого, что мы сеем хлеба, не дающие больших урожаев. Просо же родится сам-двадцать, — «мы были бы давно богаты, если бы сеяли одно просо!»
Этого мало. Мы видели уже, как нехитрая деревенская мудрость объясняла причину недавного бедствия. Телеграфная проволока, винище, генеральное межевание… Но самое распространенное и самое «строгое» объяснение касается роскоши, будто бы ныне необычайно распространившейся в русском народе.
— Твой дед ходил в лаптях? — спрашивал при мне один строгий человек у переминавшегося с ноги на ногу мужика.
— Так точно.
— И хлеб у него родился?
— Это верно. Прежде урожаи-то были не нонешним чета…
— А на тебе сапоги?..
— Плохие, ваше благородие. Одна только слава, что сапоги…
— А все-таки сапоги есть, а хлеба нет… Понимай теперь сам!
— Как не понять!
Деревня в своем смущении сама не прочь порой согласиться с этим объснением. Действительно, прежде ходили в лаптях, и земля родила обильнее. Теперь — сапоги, ситцы — и неурожаи…
— Так неужто, братец ты мой, ежели теперича снять мне сапог, земля станет родить больше? — недоумевал после этого разговора наш простодушный собеседник.
Ему, конечно, можно простить, тем более, что его недоумение самоотверженно и бескорыстно: дело шло об его собственной роскоши (сапожишки-то, действительно, были совсем плохие!). Гораздо менее простительно, когда люди, сами щеголяющие в ботинках, и говорят, и пишут, и действуют в этом разувательном и обнажающем направлении.
Так и васильская продовольственная комиссия во главе с П. П. Зубовым почувствовала себя оскорбленной зрелищем народной роскоши.
— У него, — говорил васильский предводитель дворянства, автор проекта, — есть сапоги со сборами, гармонии, самовары…
Из этого следовал вывод:
Пусть он продает сапоги, самовары, сарафаны и гармонии, и только после этой операции васильская продовольственная комиссия признает его заслуживающим помощи[42]. Но и затем, так как он пьяница и лентяй, то необходимо зорко смотреть, чтобы он не уклонялся от работы: хлеб выдавать не иначе, как под особые квитанции землевладельцев-нанимателей. Всякое заявление о том, что он отказался от приглашения на работу (об условиях этого приглашения не говорилось, — предполагалось, что условия господ помещиков будут самые великодушные), должно лишить просителя всякой надежды на помощь.
Генерал Баранов одно время почему-то особенно покровительствовал П. П. Зубову, выдвигал его и сам направил к нему сладкопевца господина Шарапова. Но когда г. Зубов появился со своей государственной мудростью в продовольственной комиссии, где все-таки было немало людей действительно сведущих, то генерал Баранов вынужден был отступиться от своего protégé! Его своеобразные теории потерпели жестокое поражение. О просе даже не спорили, и весь «просяной проект» сделался добычей газетных фельетонов. Но затем: сколько можно выручить за сапоги и гармонии? — спрашивали у васильского мудреца. — Не послужит ли это на пользу одним кулакам, которые, при любезном содействии уездной комиссии, скупят у мужика «лишнее имущество» за бесценок? Наконец, что же это за теория, стремящаяся во что бы то ни стало раздеть и разуть?.. Не должна ли, наоборот, истинно практическая и притом самая русская мудрость стремиться к тому, чтобы русский народ не только сохранил свою обувь, но еще получил бы со временем возможность одеваться не хуже любого немца? На все эти вопросы представители Васильского уезда не дали сколько-нибудь удовлетворительного ответа. Но теория осталась все-таки для… «своего» уезда. И, боже мой, сколько, должно быть, проса насеяно на васильских нивах! А проповедь раздевания нашла свою благодарную почву на берегах Теши и Рудни и в Лукояновском уезде облеклась в зловещий термин: там это называлось впоследствии «вымаривать» у голодающего мужика лишнее имущество (не исключая, конечно, и «лишней» скотины)!.. Как же, однако, могло случиться, что столь явно нелепая система, потерпевшая такое очевидное поражение в губернской продовольственной комиссии, то есть в центре, все-таки возымела силу и действие на местах? Это обстоятельство объясняется опять некоторыми особенностями нашей продовольственной организации в «голодном году». Дело в том, что уже вскоре после возникновения губернской комиссии, под шум борьбы, которую мы описывали выше, в уездах (кроме Нижегородского и Макарьевского) продовольственное дело совершенно ускользнуло из рук уездных земств. Было бы чрезвычайно интересно проследить причины этого явления, но пока можно лишь констатировать факт: в то время, как губернское земство дало решительный отпор притязаниям администрации и сохранило за собой существеннейшие продовольственные функции, уездные управы почти всюду потонули в составе уездных комиссий, сложившихся из подавляющего большинства земских начальников, под председательством уездных предводителей дворянства. Впоследствии (уже в 1894 году), ревизионная комиссия губернского земства констатировала, что в отношении организации продовольственного дела на местах — губерния представляла картину чрезвычайно пеструю. Прежде всего, — «губернская продовольственная комиссия отменяла нередко постановления уездных земских собраний, определявших количество ссуды». Комиссия присвоила себе даже право «рассматривать ходатайства земских управ о созыве экстренных собраний и жалобы на действия губернской управы». Кроме Нижегородского и Макарьевского уездов, — где уездные управы несли общее распоряжение всем делом, — в других земские органы не участвовали вовсе в распределении ссуды между сельскими обществами и отдельными домохозяевами. Остальные уезды располагаются между этими крайними пределами. Васильская уездная управа сосредоточила у себя бумажное делопроизводство по продовольственному делу, но зато отложилась от губернского земства и свои распоряжения согласовала только «с указаниями г. губернатора, губернской и уездной продовольственных комиссий». Лукояновская управа не участвовала в деле ни в какой мере, а лукояновская продовольственная комиссия отложилась и от земства, и от губернской администрации… Вообще же, в большинстве случаев, земские управы являлись лишь передаточными инстанциями. Они получали от губернского земства хлеб и деньги и тотчас же передавали их в продовольственную комиссию, которая в виде авансов раздавала их в полное распоряжение земских начальников. Все продовольственное дело на местах, составление списков, определение нужды и раздача, то есть вся самая, быть может, существенная часть продовольственных операций лежала почти всецело на земских начальниках.