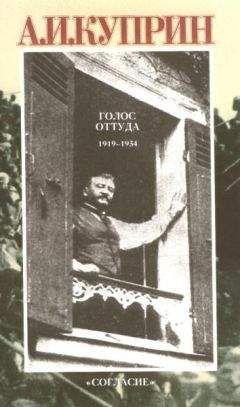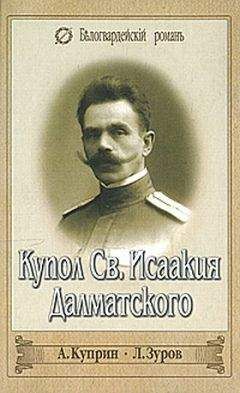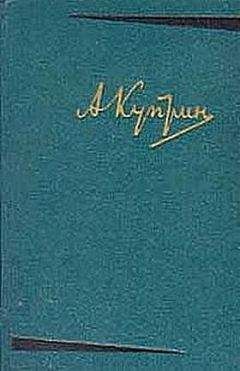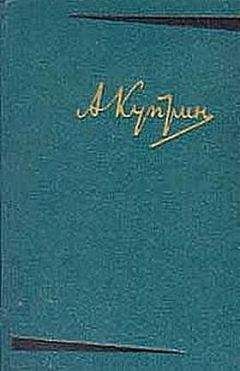Николай Лесков - Том 6
Казаки думали, что это, пожалуй, дело хорошее, но не знали: богоугодное ли оно дело; а перегудинский поп это им вытолковывал так, что дело выходит не богоугодное. Про то он обещал и донос писать, и написал. Отца Савву звали к архиерею, но отпустили с миром, и он продолжал свое дело: служил и учил и в школе, и дома, и на поле, и в своей малой деревянной церковке. Времени прошло несколько лет. Перегудинский поп, соревнуя отцу Савве, этою порою отстроил каменную церковь не в пример лучше парипсянской и богатый образ достал, от которого людям разные чудеса сказывал, но поп Савва и его чудесам не завидовал, а все вел свое тихое дело по-своему. Он в той же деревянной маленькой церкви молился и божие слово читал, и его маленькая церковка ему с людьми хоть порою тесна была, да зато перегудинскому попу в его каменном храме так было просторно, что он чуть ли не сам-друг с пономарем по всей церкви расхаживал и смотрел, как смело на амвон церковная мышь выбегала и спять под амвон пряталась. И стало это перегудинскому попу, наконец, очень досадно, но он мог лютовать на своего парипсянского соседа, отца Савву, сколько хотел, а вреда ему никакого сделать не мог, потому что нечем ему было под отца Савву подкопаться, да и архиерей стоял за Савву до того, что оправдал его даже в той великой вине, что он переменил настроение казака Оселедца, копа грошей которого пошла не на дзвин, а на школу. Долго перегудинский поп это терпел, довольствуясь только тем, что сочинял на Савву какие-нибудь нескладицы вроде того, что он чародей и его крестная матка была всем известная в молодости гулячка и до сих пор остается ведьмой, потому что никому на духу не кается и не может умереть, ибо в писании сказано: «не хощет бог смерти грешника», но хочет, чтоб он обратился. А она не обращается, — говеет, а на дух не ходит.
Это таки и была правда: старая Керасивна, давно оставившая все свои слабости, хоть и жила честно и богобоязненно, но к исповеди не ходила. Ну и возродились опять толки, что она ведьма и что, может быть, и вправду пан-отец Савва хорош «за ее помогой».
Стал такой говор, а тут к делу подоспел другой пустой случай: стало у коров молоко пропадать… Кто этому мог быть виноват, как не ведьма; а кто еще большая ведьма, как не старая Керасивна, которая, всем известно, на целое село мару напускала, мужа чертом оборачивала и теперь пережила на селе всех своих сверстников и ровесников и все живет и ни исповедоваться, ни умирать не хочет.
Надо было довести ее до того и до другого, и за это взялись несколько добрых людей, давших себе слово: кто первый встретит старую Керасивну в темном месте, — ударить ее, — как надлежит настоящему православному христианину бить ведьму, — один раз чем попало наотмашь и сказать ей:
— Издыхай, а то еще бить буду.
И одному из тех богочтителей, которые взялись за такой подвиг, посчастливилось: повстречал он старую Керасивну в безлюдном закоулке и сподобился так угостить ее с одного приема, что она тут же кувырнулась ничком и простонала:
— Ой, умираю: зовите попа — исповедаться хочу.
Сразу ведьма узнала, за что ее ударили!
Но чуть перетащили ее домой и прибежал к ней в перепуге отец Савва, она опять передумала и начала оттягивать:
— Мне у тебя, — говорит, — нельзя исповедоваться, — твоя исповедь не пользует, — хочу другого попа!
Добрый отец Савва сейчас же на своей лошадке послал в Перегуды за своим порицателем — тамошним священником, и одного опасался, что тот закобенится и не приедет; но опасение это было напрасно: перегудинский поп приехал, вошел к умирающей и оставался с нею долго, долго; а потом вышел из хаты на крылечко, заложил дароносицу за пазуху и ну заливаться самым непристойным смехом. Так смеется, так смеется, что и унять его нельзя, и люди смотрят на него и понять не могут: к чему это статочно.
— Да ну бе, — годи вам, пан-отче: что-то вы так смиетесь, що нам аж страшно, — говорят ему люди.
А он отвечает:
— О, то же оно так и надлежит, щобы вам було страшно; да щобы всим страшно було — на весь крещеный мир, бо у вас тут такое поганство завелось, якого от самого первого дня — от святого князя Владимира не було.
— О, да бог з вами, — не пужайте так страшно: идить, будьте ласковы швидче до отца Саввы — с ним поговорить: нехай вин що добре вздумае, — як помогты хрыстияньским душам.
А перегудинский поп еще больше расхохотался и вдруг весь позеленел, глаза выпучил и отвечает:
— Дурни вы вси — темны и непросвещенные люди: школу себе вывели, а ничего не бачите.
— Да того же мы вас и просим: идите до нашего отца Саввы, — вин вас у себя в хате дожида: сядьте с ним поговорить: вин все бачит.
— Бачит! — закричал перегудинскнй поп. — Ни; ничего вин не бачит: вин и того не зна: кто вин сам такий есть на свити!
— Се мы вси знаемо, що вин наш пан-отец — пип.
— Пип!
— А вже ж пип.
— А я вам кажу, що вин совсим и не пип!
— Як не пип?
— А так, не пип, да и не христианин.
— Як не христианин! годи бо вам: що се вы брешете?
— А ни: не брешу — он не христианин.
— А що ж вин таке?
— Що вин таке?
— Да!
— А бисяка его знае, що вин таке!
Люди даже отшатнулись и перекрестились, а перегудинский поп сел в сани и говорит:
— Вот я прямо от вас еду к благочинному и везу ему такую весть, що на весь мир христианский будет срам велыкий, и тогда вы побачите, що и пип ваш — не пип и не христианин, и дитки ваши не христиане, а кого он из вас венчав — те все равно что не венчаны, и те, которых схоронил, — умерли яко псы, без отпущения, и мучатся там в пекле, и будут вик мучиться, и нихто их оттуда выратувать не может. Да; и все это, что я говорю, — есть великая правда, и с тем я до благочинного еду, а вы если мне не верите, — идите все зараз до Керасихи, и поки она еще дышит, — я приказал ей под страшным заклятием, чтобы она вам все рассказала: кто есть таков сей чоловик, що вы зовете своим попом Саввою. Да, годи уже ему людей портить: вон и сорока села у него на крыше и кричит: «Савка, скинь кафтан!» Ничего; скоро увидимся. — Хлопче! погоняй до благочинного, а ты, сорочка, чекочи громче: «Савка, скинь кафтан!» А мы с благочинным сейчас назад будем.
С этим перегудинский поп ускакал, а люди, сколько их тут было, — хотели все кучей валить в хатку Керасивны, — чтобы допытать ее: что такое она наговорила про своего крестника — отца Савву; но, мало подумавши, решили сделать еще иначе, послать к ней двух казаков, да чтобы с ними третий был сам поп Савва.
XX
Пришли казаки и отец Савва и застали Керасивну, что она лежит под образами и сама горько-прегорько плачет.
— Прости меня, — говорит, — мое серденько, мое милое да несчастливое, — заговорила она до Саввы, — носила я в своем сердце твою тайную причину, а свою вину больше як тридцать лет и боялась не только наяву ее ни кому не сказать, но шчоб и во сне не сбредила, и оттого столько лет и на дух не шла, ну а теперь, когда всевышнему предстать нужно, — все открыла.
Отец Савва, может быть, и струсил немножко чего-нибудь, потому что вся эта тайна его слишком сурово дотрогивалася, но виду не показал, а спокойно говорит:
— Да што таке за дило велыке?
— Грех велыкий я содеяла, и именно над тобою.
— Надо мною? — переспросил отец Савва.
— Да, над тобою: я тебе все в жизни испортила, потому что хотя ты и писанию научен и в попы поставлен, а ни к чему ты к этому не годишься, потому что ты сам до сих пор нехрещеный человик.
Не мудрено себе представить, что должен был почувствовать при таком открытии отец Савва. Он сначала было принял это за болезненный бред умирающей — даже улыбнулся на ее слова и сказал:
— Полно, полно, крестнинькая: как же я некрещеный, когда ты моя крестная?
Но Керасивна обнаруживала полную ясность ума и последовательность в своем рассказе.
— Оставь про это, — сказала она. — Якая я тебе крестная? Никто тебя не крестил. И кто во всем этом виновать, — я не знаю и во всю жизнь не могла узнать: зробилось ли это от наших грехов или, может быть, больше от Николиной велыкой московськой хитрости. Но вот идет перегудинский пан-отец с благочинным — сиди и ты здесь, — я всем все расскажу.
Благочинный было не хотел, чтобы отец Савва и казаки слушали признания Керасивны, но она настояла на своем, под угрозою, что иначе не будет рассказывать.
Вот ее исповедь.
XXI
— Поп Савва, — говорит, — совсем и не поп и не Савва, а человек нехрещеный, и это дело я одна знаю на свете. Пошло это все с того, что его покойный отец, старый Дукач, был очень лют: все его не любили и все боялись, и когда у него родился сын, никто не хотел идти в кумовья, чтобы хрестить это дытя. Звал старый Дукач и судейского паныча и дочку нашего покойного пана-отца, да никто не пошел. Тогда старый Дукач еще больше разлютовался на весь народ и на самого пана-отца — и его самого не захотел крестить просить. «Обойдусь, говорит, без всего, без их звания». Кликнул племянника Агапку, что у него по сиротству в дурнях жил, да и велел пару коней запрячь и меня кумою позвал: «Поезжай, говорит, Керасивна, с Агапом в чужое село и нынче же окрестите мою дытину». И он мне шубу подарил, только бог с нею, — я ее после того случая и не надевала: вон она как и теперь через все тридцать лет цела висит. И наказал мне Дукач одно, что «смотри, говорит, як Агап человек глупый, он ничего сделать не сумеет, то ты гляди, добре с попом уладьтесь, щобы он, чего боже борони, по якой ни есть злобе не дал хлопцу якого имени не христианского, трудного, або московського. На двори у нас Варварин день, а то очень опасно, — бо тут коло Варвары сряду близко Никола живет, а Никола и есть самый первый москаль, и он нам, казакам, ни в чем не помогает, а все на московськую руку тянет. Що там где ни случись, хоть и наша правда, — а он пойдет, так-сяк перед богом наговорит, и все на московськую руку сделает, и своих москалей выкрутит и оправит, а казачество обидит. Борони бог нам и детей в его имя называть. А вот тут же рядом с ним живет святый Савка. Этот из казаков и до нас дуже добрый. Якый он там ни есть, хоть и не важный, а своего казака не выдаст».