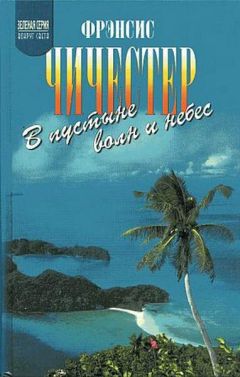Нина Берберова - Курсив мой (Главы 1-4)
Вера.
Как хозяйство? Передайте пузатому приятелю-чайнику от меня привет".
Вот три женских письма, от трех разных женщин, они дорисуют картину жизни Белого в Германии в 1921-1923 годах. В одной из корреспонденток есть что-то от злого духа, вторая запуталась в собственной диалектике, третья обезоруживает своей невинностью, но при чтении этих писем становится ясней роль тонкогубой монашки в шерстяном платке в судьбе Андрея Белого. И вероятно, она-то и была ему всех нужнее - включая и Деву-Зарю-Купину.
Белый уехал. Берлин опустел, русский Берлин, другого я не знала. Немецкий Берлин был только фоном этих лет, чахлая Германия, чахлые деньги, чахлые кусты Тиргартена, где мы гуляли иногда утрами с Муратовым. В противоположность Белому он был человеком тишины, понимавшим бури, и человеком внутреннего порядка, понимавшим внутренний беспорядок других. Стилизация в литературе была его спасением, "декадентству" он открыл Италию. Он был по-своему символист, с его культом вечной женственности, и вместе с тем - ни на кого не похожий среди современников. Символизм свой он носил как атмосферу, как ауру, в которой легко дышалось и ему, и другим около него. Это был не туманный, но прозрачный символизм, не декадентский, а вечный. В своей тишине он всегда был влюблен, и это чувство тоже было слегка стилизовано - иногда страданием, иногда радостью. Его очарования и разочарования были более интеллектуальны, чем чувственны, но несмотря на это, он был человеком чувст-венным, не только "умным духом". Он был щедр, дарил собеседника мыслями, которые другой на его месте записывал бы в книжечку (по примеру Тригорина и Чехова), а он отпускал их, как голубей на волю, - лови, кто хочет. Часть их еще и сейчас живет во мне. Но признания и благодарности он не терпел и любил в себе самом и в других только свободу. Он был цельный, законченный западник, еще перед первой мировой войной открывший для себя Европу, и я в тот год через него узнавала ее. Впервые от него я услышала имена Жида, Валери, Пруста, Стрэчи, Вирджинии Вулф, Папини, Шпенглера, Манна и многих других, которые были для него своими, питавшими его мысль, всегда живую, не обремененную ни суевериями, ни предрассудками его поколения.
Он бывал частым гостем у нас. Одно время приходил каждый вечер. Любил, когда я шила под лампой (о чем есть в его рассказе "Шехеразада", мне посвященном). В записях Ходасевича идет его имя подряд - то рядом с Б.Пастернаком, го с Н.Оцупом, то с Белым. С ним я пережила два моих наиболее сильных в то время театральных впечатления: "Покрывало Пьеретты", в котором участвовал Чабров, и "Принцессу Турандот" (3-я студия MX Г постановка Вахтангова). Чабров был гениальным актером и мимом, иначе не могу его назвать, магия его и яркий, большой талант были исключительны. С ним вместе играли Федорова-вторая (впоследствии заболевшая душевной болезнью) и Самуил Вермель, игравший Пьеро. Я и сейчас помню каждую подробность этого поразительного спектакля - ничто никогда не врезалось в мою память, как это "Покрывало", - ни Михаил Чехов в "Эрике IV", ни Барро в Мольере, ни Цаккони в Шекспире, ни Павлова в "Умирающем лебеде", ни Люба Велич в "Саломее". Когда Чабров и Федорова-вторая танцевали польку во втором действии, а мертвый Пьеро появился на балкончике (Коломбина его не видит, но Арлекин уже знает, что Пьеро тут), я впервые поняла (и навсегда), что такое настоящий театр, и у меня еще и сейчас проходит по спине холод, когда я вспоминаю шницлеровскую пантомиму в исполнении этих трех актеров. Такой театр входит в кровь зрителя, не метафорически, а буквально, что-то делает с ним, меняет его, влияет на всю дальнейшую его жизнь и мысль, являясь ему как бы причастием. Второе воспоминание - постановка Вахтангова - менее сильно: там было больше конкретного зрелища и меньше иррационального трепета. Между прочим, с Чабровым мы не раз сидели в трактире "Цум Патценхофер" - он был другом Белого (как в свое время и Скрябина).
Более светскими местами были те берлинские кафе, где играл струнный оркестр и качались пары, где у входа колебались, окруженные мошкарой, цветные фонарики, под зеленью берлинских улиц. Чахлые деревья, чахлые девицы на углу Мотцштрассе. Все мы - бессонные русские - иногда до утра бродили по этим улицам, где днем чинно ходят в школу чахлые немецкие дети те, что родились в эпоху газовых атак на западном фронте и которых перебьют потом под Сталинградом. Иногда в Прагер Диле бывает художник Добужинский, с которым у меня завязываются дружеские отношения на 35 лет. Он относится к новой для меня категории людей, той, к которой я не так-то легко привыкаю: я попадаю под их очарование, но не могу любить то, что они делают. Он не художник для меня, он только человек, собеседник, друг. Картины его я обхожу молчанием.
Гершензон в кафе не ходит. Он раз зашел и так об этом рассказал:
- Ну, устал. Ну. жарко было. Ну, думаю, зайду в это ихнее кафе передохнуть. Зашел. Говорят: обедать надо, тут ресторан. Я им объясняю, что обедаю я в пансионе Крампе, там, где живу с семьей, и никогда в ресторанах не обедаю. Они говорят: нельзя. Смотрю: опять кафе. Зашел. Говорят: только ликеры здесь пьют. Кому нужны ихние ликеры? Дайте стакан воды. Нельзя: здесь вайнштубе. Никогда не был в вайнштубе, не понимаю, кому нужны вайнштубе? Воды не дали. Опять вижу: кафе. Вхожу, спрашиваю: вайнштубе это или не вайнштубе? Не вайнштубе, говорят. Это ресторан? Нет, это, говорят, кафе. Фу ты черт, роскошь какая! Канделябры, люстры, ковры... Лакеи во фраках, женщины, понимаете, такое у них тут все... А воды выпить можно? спрашиваю. Удивляются. Сесть не предлагают, и вижу: несут мне стакан воды на подносе. Сколько? - говорю. Испугался, что денег не хватит. Ничего, говорят, за воду не возьмем. Пейте, говорят, и уходите. Ауфидерзейн... И это вы в таких-то местах каждый вечер сидите?
Нина Петровская появилась у нас однажды днем, в сопровождении сестры Нади. Надя была придурковатая, и я ее боялась. С темным, в бородавках, лицом, коротким и широким телом, грубыми руками, одетая в длинное шумящее платье с вырезом, в огромной черной шляпе со страусовым пером и букетом черных вишен, Нина мне показалась очень старой и старомодной. Рената "Огненного Ангела", любовь Брюсова, подруга Белого - нет, не такой воображала я ее себе. Мне показалось, что и Ходасевич не ожидал увидеть ее такой. В глубоких, черных ее глазах было что-то неуютное, немного жутковатое, низким голосом она говорила о том, что написала ему письмо (она никогда не называла Брюсова по имени) и теперь ждет, что он ответит ей и позовет ее в Москву. Вишни на ее шляпе колебались и шуршали, как прошлогодняя листва, она употребляла странные выражения, которые больше напоминали Бальмонта, чем Брюсова: несказанный, двуликий, шел на меня, как черная птица (о ком-то, встреченном на Пассауэр-штрассе). Когда она поцеловала меня, я почувствовала идущий от нее запах табака и водки. Однажды Ходасевич вернулся домой в ужасе: он три часа просидел в обществе ее и Белого - они сводили старые счеты: "Это было совершенно, как в 1911 году, - говорил он. - Только оба были такие старые и страшные, что я едва не заплакал".
Она относилась ко мне с любопытством, словно хотела сказать: и бывают же на свете люди, которые живут себе так, как если бы ничего не было: ни Брюсова, ни 1911 года, ни стрельбы друг в друга, ни средневековых ведьм, ни мартелевского коньяка, в котором он когда-то с ней купал свое отчаяние, ни всей их декадентской саги. Из этого один только коньяк был сейчас доступен, но я отказывалась пить с ней коньяк, я не умела этого делать. Она приходила часто, сидела долго, пила и курила и все говорила о нем. Но Брюсов на письмо ей не ответил.
Через несколько лет, в Париже, после смерти сестры, она несколько дней прожила у нас в квартире на улице Ламбларди. С утра она, стараясь, чтобы я не заметила, уходила пить вино на угол площади Дюмениль, а потом обходила русских врачей, умоляя их прописать ей кодеин, который действовал на нее особым образом, в слабой степени заменяя ей наркотики, к которым она себя приучила. Жизнь ее была трагической с самого того дня, как она покинула Россию. Чем она жила в Риме во время первой войны - никто ее не спрашивал, вероятно, отчасти - подаянием, если не хуже. Ночью она не могла спать, ей нужно было еще и еще ворошить прошлое. Ходасевич сидел с ней в первой, так называемой "моей", комнате. Я укладывалась спать в его комнате, на диване. Измученный разговорами, куреньем, одуревший от ее пьяных слез и кодеинового бреда, он приходил под утро, ложился около меня, замерзший (ночью центрального отопления не было), усталый, сам полубольной. Я старалась иногда заставить ее съесть что-нибудь (она почти ничего не ела), принять ванну, вымыть голову, выстирать свое белье и чулки, но она уже ни на что не была способна. Однажды она ушла и не вернулась. Денег у нее не было (как, впрочем, и у нас в то время). Через неделю ее нашли мертвой в комнатушке общежития Армии Спасения - она открыла газ. Это было 23 февраля 1928 года.