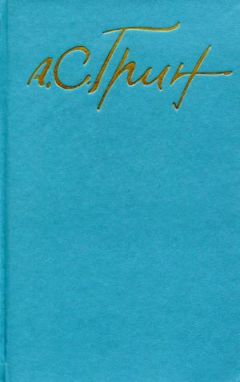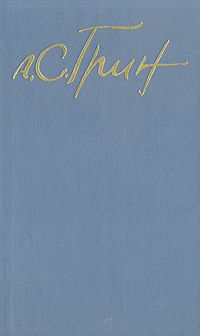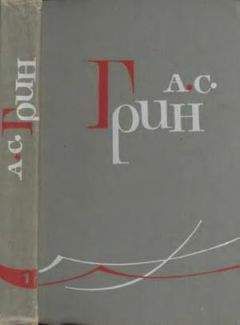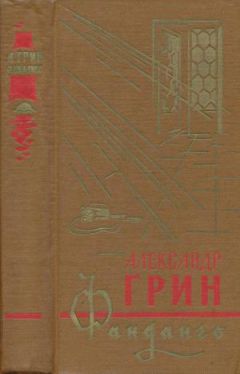Александр Грин - Том 1. Рассказы 1907-1912
Через мгновение он увлекся и, зараженный сам стихийной, трагической жизнью царственно погибшего человека, почувствовал, как защекотала горло невысказанная, умиленная благодарность живого к мертвому; смешное и трогательное волнение гуся, когда из-за досок птичника слышит он падающее с высоты курлыканье перелетных бродяг, бежит, хромая, и валится на распластанные, ожиревшие крылья в осеннюю, больную траву.
Стоит он и тяжко вздыхает,
Пока озарится восток,
И падают горькие слезы
Из глаз на холодный песок…
И, по мере того, как стихотворение подходило к концу, лица становились натянутыми, упрямыми, притворно скучающими. А Лидия Зауэр думала, по-видимому, не о них и не о том, в чьем образе неразрывно сплетено золото императорских орлов с грозной музыкой Марсельезы. Глаза ее оставались покойными, слегка влажными и холодными: человека стихийной силы здесь не было. Но в голосе ее так же, как в своей душе, Степанов чувствовал незримые руки мольбы, протянутые к плоской равнине жизни и к вечно витающему, вспыхивая редкими воплощениями, призраку человека.
Розовое лицо смолкло; тонкие, неторопливые пальцы стали поправлять волосы — обычное движение женщины, думающей о мыслях других людей. Кто-то встал, зажег электричество и сел на прежнее место.
Но лучше бы он не делал этого, потому что в безжалостном свете раскаленной проволоки еще жалче и бессильнее было его лицо маленькой твари, сожженной бесплодной мечтой о силе и красоте.
Штурман «Четырех ветров»
Во всей той окрестности не было ни одного человека, который мог бы его услышать.
СервантесШатаясь, я придерживался за складки его плаща, изображая собой судно, буксируемое против ветра. Он неуклонно подвигался вперед и, как подобает морскому волку, тщательно рассматривал мрак. Ветер, проносясь со скоростью шторма, свистел нам в уши, словно стая обезумевших мальчишек. Выпитая водка кое-как согревала внутренности, предоставляя коже зябнуть и коченеть от ледяных брызг дождя. В голове мелькали воспоминания: хохочущие женские рты. Но если хоть раз в день было весело — это уже хорошо.
Неизвестно, куда мы шли, но в то время нисколько не сомневались, что идти нужно именно в этом направлении. Зачем? Спросите об этом у штурмана. Он шагал так быстро, что я сам не успел задать ему этот вопрос; к тому же он мне тогда и не приходил в голову. Я брел, как слепой щенок, веселый, пьяный, мокрый и говорливый. Я говорил страшно много. В самый короткий срок, считая с того момента, когда мы показали тыл порогу «Свидания моряков», я выложил и вывернул наизнанку себя всего, как наволочку; рассказал все свои секреты легкомысленно обнажил тайны, проявил все сомнения и вытряхнул столько убеждений, что их хватило бы иному на всю жизнь. Кроме того, я клялся самой страшной божбой и, когда штурман начинал одобрительно рычать, приходил в явно неистовый восторг.
Подвигаясь таким образом, мы очутились не далее, как в двух шагах от воды. Штурман втянул носом соленый запах и не допустил меня упасть с набережной, что я пытался сделать, принимая воздух за продолжение мостовой. Я сказал:
— Спасибо тебе за то, что не всякий бы сделал на твоем месте. Будь здесь мой дядюшка, он ласково улыбнулся бы мне с берега, даже не заботясь, способен ли я разглядеть сквозь эту тьму его дьявольскую улыбку.
— Я хочу пить! — захрипел штурман, хватая меня за бока. — Пить! — Или я ложусь в дрейф, и пусть меня слопают акулы, если я тронусь с места! Довольно! Я не греческая губка, но и не черепица. Я не могу более. Я жажду.
— Нечего жаждать, — возразил я. — Морская вода с примесью апельсинных корок — этого ли ты хочешь, бесстыдник? Или тебе мало полубочонка имбирного пива, трех бутылок виски и полкварты персиковой настойки? Если мало — то «да», а если довольно — то «нет!».
— Да! — воскликнул он с одушевлением пророка. — Да! И идем, Билль, как можно скорее! Не может быть, чтобы все трактирщики легли спать. Право на борт, пьяница с гнилыми ногами, и держись за меня, иначе, клянусь копытами сатаны, ветер опрокинет тебя, как грудного младенца.
Здесь я принужден сделать маленькое отступление, чтобы познакомить со штурманом тех из моих читателей, кто не встречал его ни в «Свидании моряков», ни в «Черном олене», ни в «Рассаднике собутыльников». Он был в полном смысле слова — мужчина. Его рыжая грива была густа, как июльская рожь, а широкое, красное от ветра лицо походило на доску, на которой повар крошит мясо. Говорят, что и весь он исполосован шрамами в схватках на берегу из-за лишнего комплимента чужой красавице или нежелания уступать дорогу первому встречному, вроде джентльмена в кэпи, — но этого подтвердить я не могу, так как никогда штурман при мне не снимал рубашку; а снимал он ее три раза в год, по большим праздникам. Рост его был немного пониже семи фут; глаза черные, как две хорошие маслины, а кулаки весили бы, вероятно, по шести фунтов каждый.
Если это вам нравится, то именно таков был его портрет в те времена. Прибавлю еще, что в правом ухе он носил серьгу, снятую им со своей покойной жены, когда ее положили в гроб. При этом, как передают, им были сказаны следующие знаменательные слова: «Не думай, милая моя Бетси, что я хочу тебя обокрасть или что я стал жаден, как нищий в пустой квартире; стоит тебе встать из гроба — и я куплю тебе сережки в четыре фунта, потолще моих пуговиц». Сказав это, он зарыдал и вытащил серьгу из уха покойницы — на память, по его объяснению.
За плащ этого человека я и держался, пока мы, тоскуя о невозможном, блуждали по спящим улицам. Не знаю — было ли еще когда-нибудь темнее, чем в эту ночь. Ветер бушевал, как дюжина цепных псов; слева и справа, сзади и спереди бросал он отчаянные толчки, рвал одежду и затруднял дыхание. Дождь поливал нас усерднее садовника, хотя мы и не были розами, ноги мои жулькали в сапогах, коченели, и я, наконец, перестал их совсем чувствовать. Мы прошли одну улицу, другую; свернули, путались в переулках, но нигде, кроме искр своих собственных глаз, не видели никакого света. Наглухо закрытые ставни скрипели заржавленными болтами, из водосточных труб хлестала вода, и мрак, чернее мысли приговоренного к смерти, закрадывался в наши сердца, жаждущие веселья.
Наконец, штурман не выдержал. Стиснув зубы так, что они взвизгнули не хуже плохого флюгера, и топнув ногой, он утвердился на месте крепче принайтовленной бочки. Я тщетно пытался сдвинуть его, все мои усилия повели только к взрыву проклятий, направленных против неба, ада, трактирщиков, моей особы и ни в чем не повинной шхуны «Четыре ветра», мирно дремавшей у мола в соседстве двух катеров.
— Ни с места! — громовым голосом рявкнул штурман, набирая как можно больше воздуха. Это служило признаком, что он намерен держать речь, как всегда — в подобных и иных критических случаях. — Ни с места, говорю я. Разбудим весь город, или сами захрапим тут не хуже каких-нибудь кухарок или объевшихся лавочников! Как?!. Два джентльмена желают выпить и не могут этого сделать потому, что в этом дрянном городе живут сурки?! Эй, проживающие здесь (говоря это, он подошел к ближайшим воротам и ударил в них кулаком так крепко, что вздрогнула ночь), — эй, — говорю я, — вставайте! Мы желаем с вами познакомиться. Если же вы не слышите, я буду барабанить здесь, как обезьяна на ярмарке, до тех пор, пока не свалюсь в грязь! Проснитесь, сухопутные крысы, кочни капусты, пучки сельдерея! Одну бутылку — и мы удалимся! Расчет наличными!
Беснуясь, он каждое слово свое сопровождал сокрушительными ударами. Сердце мое замерло. С минуты на минуту я ожидал, что нас окружит толпа потревоженных жителей, и тогда будет нехорошо. Но, к моему удивлению, царствовало глубокое безмолвие, нарушаемое лишь возгласами отважного штурмана и гулом ветра.
— Лазит в карман за словом тот, кто привык искать его везде, кроме собственной головы, — продолжал мой спутник, сделав маленькую передышку, так как уже охрип. — Или вы думаете, что мне с вами не о чем разговаривать? Дудки-с! Я буду кричать вам до рассвета, потому что нет ни одной гавани в мире, где я не менял бы золото на медяки, а серебро на свистульку! Кроме вас, есть еще желтые, черные и коричневые балбесы, а есть и такие, что блестят почище ваших медных кофейников! В Гаване рыбу ловят острогами, а в Судане крючками. А где лучший хлеб, знаете ли вы, каракатицы? Я знаю — в Лиссабоне; потому что он там бел и мягок, как девушка в восемнадцать лет! Я вам скажу, что в Индии есть слоны и дворцы, тигры и жемчужные раковины. В океане, где я живу, как вы под железной крышей, — вода светится на три аршина, а рыбы летают по воздуху на манер галок! Это говорю вам я, штурман «Четырех ветров», хотя ее и чинили в прошлом году! Попробуйте-ка прогуляться где-нибудь в Вальпарайзо без хорошего револьвера — вас разденут, как артишок. В море, говорю я вам, бывают чудеса, когда ваш собственный корабль плывет на вас, словно вы перед зеркалом! А где пляшут гейши — я вам и ходить не советую, потому что вы распустите слюни. Поросята! Я вам скажу, что есть места, где ананасы покупают корзинами, и они дешевле репы. Видали вы небо, под которым хочется хохотать с зари до зари, как будто ангелы щекочут в вашем носу концами своих крыльев? А леса, перед которыми ваши цветники — вроде огородной гряды перед облаками на закате? В Шанхае чай шесть пенни за фунт, и это первого сбора. Клянусь тетушкой черта, если она у него есть, что сам видел раковины больше корзины, и они пестрели, как радуга. Если б я не был пьян, я вас всех вытащил бы на палубу и дал бы вам на первое время в месяц по двадцати шиллингов. Чего вы боитесь? Вы можете взять с собой все ваши кастрюли, кровати и горшки с душистым горошком, да в придачу еще пару гусей, если они у вас есть. Так я вам и позволил пакостить судно разным печным скарбом! Не плачьте, чулочники, сапожники, кузнецы, пивовары, лавочники и жулики! Ваше прошлое останется с вами, вы можете его пережевывать, как коза жвачку, сколько угодно. Эй, говорю я, прыгайте, прыгайте из окошек вниз! Я покажу вам новую бизань из самого сухого дуба на всей земле.