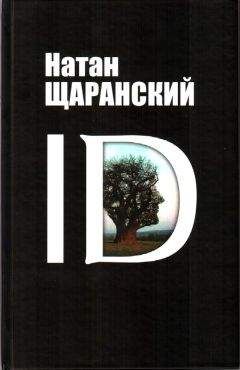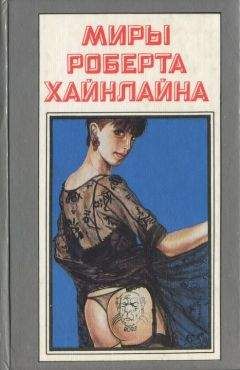Натан Щаранский - Не убоюсь зла
Больше я никогда Петренко не видел. Как ни соблазнительно было думать, что к крушению его карьеры причастен и я, реализм во мне возобладал над гордыней. В советской системе, особенно на уровне партийной и кагебешной элиты, людей не снимают с работы за допущенные ими ошибки. Падение их объясняется интригами, борьбой различных групп за власть, за влияние. А когда чья-то судьба уже предрешена, тогда этому человеку и предъявят длинный список допущенных им прегрешений - даже если он совершал их по заданию своего более удачливого начальства; свалят на него и чужую вину.
Видимо, что-то подобное произошло и в этом случае. Когда Петренко решили "уйти", его, надо думать, обвинили и в том, что он плохо изолировал меня от внешнего мира, и в том, что дал мне повод обвинять КГБ в антисемитизме, и, может быть, даже в том, что своим неумным поведением ожесточил меня и затруднил работу следствия. Во всяком случае, в дальнейшем следователи и даже прокурор не раз говорили мне, что осуждают методы Петренко и что не случайно ему пришлось покинуть свой пост.
Но рановато они поставили на нем крест. Через пять лет, встретившись в Чистопольской тюрьме с новым лефортовским пополнением, я узнал следующее. В восемьдесят первом году в Лефортово произошло ЧП. Арестованный - видимо, по обвинению в шпионаже - польский генерал покончил жизнь самоубийством: когда его вели на прогулку, он сумел взбежать на мостик, с которого надзиратель наблюдал за зеками, и бросился головой вниз на асфальт. За это кто-то должен был ответить. В итоге Поваренков исчез, а на его месте вновь появился Петренко.
12. ПО РАЗНЫМ СЦЕНАРИЯМ
Итак, допросы в августе-сентябре проходили по двум параллельным сценариям: КГБ и моему. Следователи пытались посеять во мне недоверие к друзьям, я же, не слушая их, играл в совершенно другую игру. В соответствии с моим сценарием допросы шли примерно так.
Я вхожу в кабинет улыбаясь, вдохновленный молитвой, которую, как всегда, успел по дороге из камеры произнести дважды, и, с начала сентября, - с фотографией жены в боковом кармане пиджака.
- Что, Анатолий Борисович, опять отличное настроение?
- Конечно, Александр Самойлович. Такие хорошие вести поступают с воли, как не радоваться!
- Правда? Ну, и откуда же они на этот раз к вам поступили?
- Как всегда: Наумов каждый день на связи. Молодец, аккуратный человек!
Мы оба весело смеемся, но каждый при этом не спускает глаз с противника.
- Что же вы сегодня расскажете, Анатолий Борисович?
- О, Господи! Да что же это случилось, Александр Самойлович? Почему вдруг я должен вам рассказывать? У нас же с вами полное взаимопонимание: вы говорите, а я слушаю.
- Ну, знаете, может, для разнообразия поменяемся разок ролями и вы мне расскажете? Позвольте мне сегодня послушать.
- Нет уж, позвольте вам не позволить...
И дальше - в том же духе.
Я эту вводную часть допроса называл про себя "подпрограммой Манилов-Чичиков": именно так топтались у дверей герои "Мертвых душ", уступая друг другу право войти первым. Но если у Гоголя эти двое в конце концов входили, толкаясь, одновременно, то в нашем сюжете я ни разу не позволил себе нарушить этикет, и первенство всегда принадлежало Солонченко.
- Следствие располагает данными о...
Упоминается какой-нибудь документ, заводится речь о демонстрации, пресс-конференции, зачитываются показания тандема, задаются стандартные вопросы, на которые я отказываюсь отвечать или повторяю сказанное раньше.
Затем начинается "вольная" часть допроса, к которой каждый из нас припас свои "домашние заготовки". Пока Солонченко рассуждает о моральных качествах моих "сообщников", я караулю подходящий момент, чтобы напомнить ему: о происходящем на воле мне известно больше, чем он полагает. Вот следователь говорит о том, что Прессел делал с Рубиным какие-то гешефты втайне от остальных. Я бросаю реплику:
- Ну что ж, как бы то ни было, у вас ведь не нашлось достаточных оснований выслать его. Кончился у дипломата срок - он и уехал, значит, не такими страшными были его проступки.
Солонченко замолкает. Когда-то он пытался убедить меня, что Прессел выслан, но с тех пор многое изменилось.
- А зачем высылать? Дипломат ведь не корреспондент, арестовать его нельзя. Мы вышлем американца, они - нашего, только лишние хлопоты. Главное - быть в курсе их преступной деятельности и вовремя ее пресекать.
В другой раз речь заходит о конгрессмене Драйнене, о его визитах со мной в качестве переводчика к Сахарову, к Лунцу.
- Вот ведь интересно: в то время, когда вы его тут чуть ли не в сообщники мне клеите, в "Правде" его - как и некоторых других американцев, знакомство с которыми вы мне еще припомните, - хвалят как борцов за мир. Знали бы они, что проходят у вас в качестве участников сионистского заговора, еще активнее за мое освобождение боролись бы. Впрочем, Драйнен и так первый помощник моей жены в Вашингтоне.
Я не сомневался, что священник Драйнен продолжает помогать Наташе: ведь он включился в ее борьбу еще до моего ареста. Но я и представить себе не мог, что попал в самую точку: в Вашингтоне, оказывается, был организован комитет в мою защиту с Драйненом во главе.
- Не надейтесь, - криво улыбнулся Солонченко. - Что бы ваша жена ни делала, ей никого обмануть не удастся, пусть даже ей и помогают ваши друзья. Их, кстати, становится все меньше.
Молодец следователь - подтвердил, что Авиталь не бездействует и что она в своей борьбе не одинока !
Как-то в середине сентября Солонченко стал рассказывать мне о том, насколько напуганы и деморализованы моим арестом все отказники, как у них сейчас языки развязываются:
- Ведь каждый понимает: измена Родине - это не шутка, а тут его вызывают на допрос и предупреждают об ответственности за дачу ложных показаний. Вы скажете, полгода принудительных работ за это - не срок? Но человеку объясняют, что эти шесть месяцев он проведет в закрытом районе, рядом с военными объектами, после чего еще лет десять не выедет из СССР. Думаете, это не действует? Еще как действует!
Хотя я хорошо знал цену словам моих следователей, я не сомневался, что КГБ может угрожать еще и похлестче, и сказал ему:
- Вот ведь любопытно: почему мне вы рассказываете о том, что все там напуганы и сотрудничают с вами, а моим друзьям говорите, что я трясусь от страха и выкладываю все как на духу? От правды вы, надо думать, далеки в обоих случаях.
Помолчав, Солонченко сказал как-то особенно холодно и надменно:
- На вашем месте, Анатолий Борисович, я бы не полагался на какие-то сомнительные источники информации. Вы же на собственном примере испытали, как опасно им доверять: сколько раз, скажите, друзья уверяли вас, что мы не решимся на ваш арест, - а вы вот сидите.
Здорово! Он уже не только не сомневался, что у меня есть связь с волей, но и не считал нужным это скрывать, ему хотелось только заставить меня усомниться в надежности источника информации.
Да, лишение возможности видеть почерк родных, серия обысков, повышенное внимание к моей скромной особе, новые угрозы со стороны Петренко - все это было, конечно, издержками затеянной мной игры. Но зато - сколько положительных эмоций!
Однажды во время очередного исполнения "подпрограммы Манилов-Чичиков" я решил продемонстрировать уступчивость:
- Ну ладно, хотите, чтобы мы поменялись разок ролями, - я согласен. Но тогда давайте и местами поменяемся, хотя бы минут на десять. Я сяду за ваш стол, а вы - за мой.
- А зачем это вам? - не понял Солонченко.
- Ну, например, воспользуюсь вашим телефоном, позвоню, скажем, в бюро "Нью-Йорк Тайме" - они, должно быть, уже соскучились по моему голосу.
Цель этого хода была простой. Солонченко, как я предполагал, скажет: напрасно вы надеетесь, они все там уже боятся вашего имени; друзей ваших давно в бюро нет - или еще что-нибудь в этом же роде. А я, в зависимости от ответа, попробую продемонстрировать свою осведомленность: это, мол, не так; и, может, даже вверну слово о Бобе, чтобы узнать, где он теперь и что с ним. Однако следователь припас другую "заготовку":
- Я давно хотел поинтересоваться, Анатолий Борисович: вы, наверно, театр любите?
- Да, очень.
- "Таганку", я полагаю?
- Опять угадали, - пытаюсь я уловить, куда это он клонит.
- Ну, а какой жанр вам больше всего по душе? - спросил он, улыбаясь иронично, но добродушно и сделав круговое движение рукой: дескать, и у нас с вами тут сцена.
- Вы правы, Александр Самойлович, - подхватываю я его невысказанную мысль, - мой любимый жанр - фарс, а любимый спектакль - "Тартюф" в театре на Таганке. Но вы ведь меня по театрам не водите - приходится удовлетворяться этими постановками.
- Так вот, я хочу вам сказать, Анатолий Борисович, что вы забываете законы драмы. Помните, как говорил Чехов: если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно обязательно должно выстрелить. В первом акте вам его показали. Вы же ведете себя так, как будто последний акт никогда не наступит. Но, уверяю вас, всякая пьеса имеет свой конец. И эта - тоже.