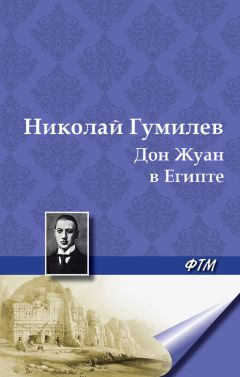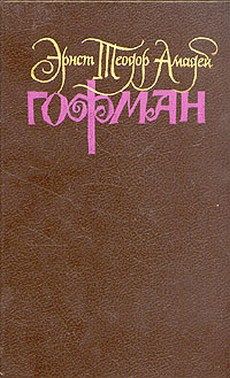Гайто Газданов - Ночные дороги
— Почему ты мне писала? — спросил я.
Она не знала, что ответить, и несколько раз повернула голову на подушке.
— Я хотела тебе сказать… я хотела тебе сказать…
— Что?
— Вот… что я теперь жалею.
— О чем ты жалеешь?
— Что я так поступила.
— Что ты мне написала?
— Да нет, ты же прекрасно понимаешь. Я говорю о Ральди.
— Слишком поздно, Алиса. Ральди умерла. Она заплакала, по-детски морща все лицо.
— Я бы хотела, чтобы ты ко мне приходил время от времени.
— Откровенно говоря, зачем?
— Не знаю. Ты понимаешь, я ведь совсем одна. У меня никого нет на всем свете, вот только маленький музыкант, но ведь он же не человек, он, как я.
Она сбивчиво объясняла мне, почему она меня вызвала. В небольшом и бедном запасе чувств, которым она обладала, — и в котором не было ни любви, ни страсти, ни ненависти, ни даже гнева или сильного сожаления, существовали все-таки какие-то отдаленные намеки на интерес к тому, что ее непосредственно не касалось и не задевало. Она сказала мне, что все, кого она встречала, хотели от нее, в том или ином виде, только одного, всегда одного и того же. Природа и в этом смысле не пощадила ее, лишив ее всякого темперамента.
— Для меня спать с мужчиной, все равно с каким, это наказание. Если бы ты знал, как это противно! А тебя это не интересует, ты не хочешь со мной спать. И потом, когда ты меня не ругаешь, ты говоришь вещи, которых я никогда от других не слышу. Ральди мне всегда говорила, что ты не такой, как другие шоферы. Это правда, что ты получил образование?
Мне было неловко, и мне было жаль ее.
— Я бы очень хотела, чтобы ты приходил. Я у тебя ничего, кроме этого, не прошу. Ты будешь сидеть там, где сидишь сейчас, в этом кресле, и будешь со мной разговаривать, если тебе захочется. Ты будешь говорить, о чем ты думаешь. И ты скажешь мне, почему я такая дура. Хочешь? Прости меня за беспокойство, которое я тебе причиняю.
И вот, после этого разговора, примерно раз в месяц, я приезжал к Алисе. Иногда я сидел и молчал, иногда рассказывал ей всякие истории, упрощая их и переделывая их так, как я бы их переделывал для больной девочки двенадцати тринадцати лет. И все-таки она многого не понимала.
— И подумать, что Ральди читала с тобой Флобера! — говорил я.
— Она считала, что это полезно, — ответила Алиса. — Я этого не думала, но не смела ей сказать.
Она медленно поправлялась и через некоторое время уже начала выходить на улицу. Но здоровье не вернулось к ней в полной мере; она ни на что, собственно, не жаловалась и чувствовала себя в общем неплохо, но быстро уставала, ела без особенного аппетита, но очень крепко спала.
— Ты собираешься вернуться в мюзик-холл? — спросил я ее как-то.
— Нет, — сказала она, — это мне больше не нужно.
И, конечно, мюзик-холл ее тоже никогда не интересовал, он дал ей возможность познакомиться с ее покровителем, и на этом его роль была кончена. В конце концов, Алиса была довольна своей жизнью: квартирой, покровителем, произносившим надоевшие ей, но в его устах совершенно безобидные слова об опьянении и томлении, его нетребовательностью, мелодиями маленького педераста и тем, что могла ничего не делать и лежать сколько угодно. Она понемногу откладывала деньги и экономила на всем, только цветы у нее были всегда прекрасные и в большом количестве; но, как это оказалось, их присылал каждый день все тот же неутомимый в смысле постоянных забот о ней и по-своему трогательный — "друг".
— Я знаю, что он меня не бросит, — говорила Алиса, — ты понимаешь, ему пятьдесят девять лет, в таком возрасте за девками не бегают. Я за него спокойна.
Несмотря на болезнь, ее красота не потускнела, стала как будто чуть-чуть прозрачнее, и теперь сделалось еще очевиднее, что в ней совершенно отсутствовала та живая и теплая прелесть, которая возбуждает чувственное влечение к женщине. И было, в конце концов, понятно, что ее наиболее близким другом стал маленький музыкант, в котором так же отсутствовало мужское начало, как в ней отсутствовало женское. Я сидел как-то у нее вечером ранней осенью, в кресле, перед открытым окном; она, как всегда, лежала на диване, положив под голову руки, аппарат радио чуть слышно — она не любила громкой музыки — играл какую-то невнятную мелодию. Во всем, от этой музыки до слабеющего запаха цветов, до самого воздуха ее квартиры, было нечто усыпляющее, хотелось дремать, ослабив все мускулы тела; я сидел и чувствовал, как то, что обычно волновало или сильно занимало меня, постепенно таяло и исчезало, и не оставалось ничего, кроме этой непонятной, почти болезненно-сладкой дремоты. И я вспомнил еще раз, как весной, два года тому назад, в комнате Ральди, с этим высоким и узким окном, я видел Алису голой и прекрасное ее тело в солнечных пятнах. Из этой красавицы Ральди хотела сделать даму полусвета. Я понимал теперь, как мне казалось, почему она занялась подготовкой Алисы к этой своеобразной карьере и зачем ей все это было нужно. Это был последний мираж Ральди и еще, быть может, бессознательная жажда бессмертия, в которой она, конечно, не отдавала себе отчета. Ее жизнь, ее блистательные возможности — вне которых она не представляла себе смысла своего существования — все было кончено, потому что она состарилась и против этого не было никаких средств. Но весь громадный запас ее чувственного и душевного богатства — следы которого оставались только в ее огромных и нежных глазах — еще не стал мертвым грузом, умерли лишь возможности его применения. И вот это, ненужное ей теперь, богатство она хотела передать Алисе, в которой оно должно было продолжаться, — эти слезы, волнения, дуэли, объятия, стихи и готовность отдать все за ослепительное счастье, которого, в конце концов, никогда не существовало. И то, что, несмотря на весь свой несравненный опыт, она так ошиблась в Алисе, доказывало только, что она была ослеплена этим своим желанием в такой степени, что не сумела увидеть самого главного и самого характерного для Алисы, — именно того странного, неожиданного в ней отсутствия жизни, которое было не менее непоправимо, чем возраст и морщины Ральди, и которого не могло заменить ни знание английского языка, ни чтение Флобера, ни тысячи каких бы то ни было советов.
Я сидел в кресле Алисы, почти засыпая и сравнивая сквозь одолевшую меня дремоту, горячий и солнечный день нашей первой встречи и тихий вечер, сейчас, теперь, в эту минуту. Между ними было зыбкое и медленное пространство двух лет, — как песок, беззвучно засыпающий все, — холмы и рвы, поля и побережье. От этого моя мысль незаметно перешла к морю, к лесу, к реке, ко всем этим бесчисленным запахам, к этим гибким раскачиваниям веток, к этому медленному полету листьев, — к тому, чего я так долго был лишен в Париже. Это были вещи, к отсутствию которых я никогда не мог привыкнуть, как я не мог привыкнуть к выражению глаз у большинства людей, с которыми мне приходилось чаще всего встречаться. Видя лица коммерсантов, служащих, чиновников и даже рабочих, я находил в них то, чего не замечал раньше, когда был моложе, какое-то идеальное и естественное отсутствие отвлеченной мысли, какую-то удивительную и успокаивающую тусклость взгляда. Потом, присмотревшись, я начал думать, что это спокойное отсутствие мышления объяснялось, по-видимому, последовательностью нескольких поколений, вся жизнь которых заключалась в почти сознательном стремлении к добровольному душевному убожеству, к "здравому смыслу" и неприятию сомнений, к боязни новой идеи, той боязни, которая была одинаково сильна у среднего лавочника и у молодого университетского профессора. Я никогда не мог забыть этого выражения тяжелых и спокойных глаз — у хозяйки гостиницы, в которой я жил, в Латинском квартале. Она рассказывала мне о благородстве двух ее постоянных жильцов, старичка и старушки; они вложили свое состояние в какие-то акции, которые потеряли ценность, и, узнав это, они оба застрелились.
— Подумайте только, мсье, — говорила она, — они были настолько добры и любезны по отношению ко мне, что они это сделали — то есть покончили с собой — не у меня в гостинице, а здесь, за углом, у моего соседа. Они не хотели ни пачкать комнат кровью — ведь я недавно положила новый ковер, мсье, — вы знаете, сколько теперь стоят новые ковры? — совершенно новый, мне его как раз накануне доставили, ни причинять мне неприятности с полицией. И вот они умерли так же, как они жили, благородно, мсье, да, благородно. — И слезы струились из ее глаз. И я подумал, как страшна была эта двойная смерть, оказавшаяся, однако, бессильной перед любовью к порядку и нежеланием доставить неприятность своей хозяйке и одновременно сделать ей действительно последнее одолжение, повредив репутации ее конкурента. Я не мог еще привыкнуть к тому, что все вокруг меня судорожно цеплялось за деньги, которые они откладывали даже не для достижения какой-нибудь цели, а просто потому, что так вообще было нужно. И эта наивная, нищенская психология была одинаково сильна в самых разных людях. Даже сутенеры и проститутки, даже профессиональные воры, даже самые отчаянные из них и близкие к сумасшествию, даже коммунисты и анархисты, которых мне приходилось видеть, никогда не сомневались ни на минуту в том, что право собственности есть священнейшее из прав.