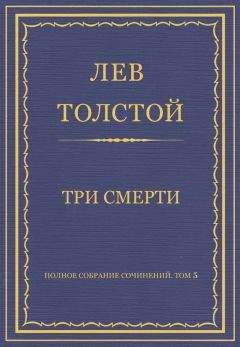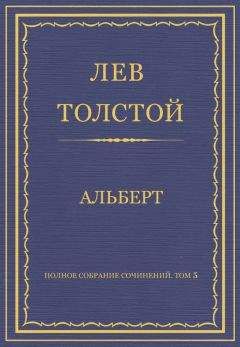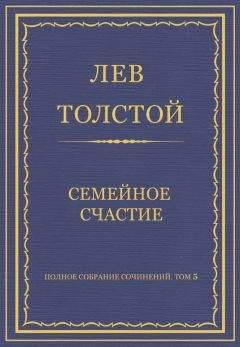Лев Толстой - Полное собрание сочинений. Том 5. Произведения 1856–1859
[55] Потомъ, что тоже сначало обманывало меня, онъ какъ будто не любилъ или презиралъ мою красоту. — Онъ никогда не намекалъ на нее и морщился, когда при немъ называли меня хорошенькой. Напротивъ, всѣ недостатки мои онъ ясно видѣлъ и любилъ ими какъ будто дразнить меня. <Родинку на щекѣ онъ называлъ мушищей и увѣрялъ, что усы мнѣ скоро придется брить съ мыломъ. Красивые туалеты или куафюры новыя, которыя мнѣ шли, казалось, возбуждали въ немъ отвращенье.> Одинъ разъ въ свои имянины я ждала его и надѣла новое ярко-голубое платье, очень открытое на груди, <и красныя ленты> и перемѣнила прическу, зачесала волосы къ верху, что очень шло ко мнѣ, какъ говорили Маша и дѣвушки. Когда онъ вошелъ и удивленно посмотрѣлъ на меня, я оробѣла, покраснѣла и умоляющимъ взглядомъ спрашивала его мнѣнья о себѣ въ новомъ нарядѣ. Должно быть, въ моихъ глазахъ онъ прочелъ другое. Онъ сдѣлалъ свою недовольную мину и холодно посмотрѣлъ на меня. Когда теперь я вспоминаю это, мнѣ ясно, почему ему непріятно было. Деревенская безвкусная, безтактная барышня, которая начинаетъ нравиться, воображаетъ себя красавицей и побѣдительницей и для 2хъ сосѣдокъ и стараго друга дома нескладно убралась всѣми своими нарядами и выставила свои прелести. Весь этотъ день онъ жестоко мучалъ меня за мое голубое [платье] и новую прическу. Онъ былъ офиціально холоденъ со мной, насмѣшливъ и ни на одинъ волосокъ не былъ со мной иначе, чѣмъ съ другими. Въ цѣлый день я не могла вызвать отъ него ни однаго дружескаго, интимнаго слова или взгляда. Вечеромъ, когда всѣ уѣхали, я сказала Машѣ, что платье мнѣ жметъ, и ушла на верхъ. Я сбросила противное платье, надѣла лиловую кофточку, которую онъ называлъ семейно-покровской кофточкой, и, уничтоживъ съ трудомъ сдѣланную утромъ прическу, зачесала волоса гладко зa уши и сошла внизъ.
— A! Лизавета Александровна! здраствуйте, — сказалъ онъ, увидавъ меня, и все лицо его отъ бороды до лба просіяло той милой, дружески-спокойной улыбкой. — Наконецъ-то удалось увидать васъ. Такъ-то лучше.
— Развѣ вы не любите ея новую прическу? — спросила Маша. — А я нахожу, что къ ней очень идетъ.
— А я ненавижу всякое фр, фр, фр! — сказалъ онъ. — Зачѣмъ? Эти барышни, что были здесь, теперь возненавидѣли ее за это сизое платье <я и поговорить не смѣлъ цѣлый день>, и самой ей неловко было, да и не красиво. То ли дѣло — такъ опять запахло фіялкой и Александръ Иванычемъ и всѣмъ хорошимъ. —
Я только улыбалась и молчала. Маша видѣла, что я нравлюсь ему, и рѣшительно не понимала, что это значило. Какъ не любить, чтобы женщина, которую любишь, выказывалась въ самомъ выгодномъ свѣтѣ? А я уже понимала, чего ему надо. Ему нужно было вѣрить, что во мнѣ нѣтъ кокетства, чтобы <сильнѣе> любить меня, и когда я поняла это, во мнѣ и тѣни не осталось кокетства нарядовъ, причесокъ, движеній. Правда, явилось тогда во мнѣ бѣлыми нитками шитое кокетство — простота, тогда, когда еще не могло быть простоты. И онъ вѣрилъ, что во мнѣ не было кокетства, а были простота и воспріимчивость, которыхъ ему хотѣлось во мнѣ. <Какъ часто въ это время я видѣла, какъ онъ приходилъ въ восторгъ отъ своихъ собственныхъ мыслей, которыя я ему высказывала по своему, какъ онъ наивно радовался на самаго себя, видя, воображая, что радуется на меня. Однако> Женщина не можетъ перестать быть кокеткой, когда ее любятъ, не можетъ не желать поддерживать обмана, состоящаго въ томъ убѣжденіи, что она лучшая женщина въ мірѣ, и я невольно обманывала его. Но и въ этомъ какъ онъ высоко поднялъ меня отъ того, что я была прежде. Какъ легче мнѣ было и достойнѣе — я чувствовала — выказывать лучшія стороны своей души, чѣмъ тѣла. Мои волосы, руки, мои привычки, какія бы онѣ не были, хорошія или дурныя, мнѣ казалось, что онъ всѣ зналъ и сразу оцѣнилъ своимъ проницательнымъ взглядомъ, такъ что я ничего кромѣ желанія обмана, ломанья не могла прибавить къ своей красотѣ, душу же мою онъ не зналъ, потому что онъ любилъ ее, потому что въ то самое время она росла и развивалась, и тутъ-то я могла и обманывала его. Притомъ какъ мнѣ легко стало, когда я ясно поняла это. Эти смущенье, стѣсненность движеній совсѣмъ изчезли во мнѣ, какъ и въ немъ. Я чувствовала, что спереди ли, съ боку, сидя или ходя онъ видѣлъ меня, съ волосами кверху или книзу, — онъ зналъ всю меня <(и мнѣ чуялось, любилъ меня какой я была) я не могла ни на одинъ волосъ крѣпче привязать его. Но за то> Я даже не знаю, была ли бы рада, ежели бы онъ вдругъ сказалъ мнѣ, что у меня глаза стали лучше. Зато какъ отрадно и свѣтло на душѣ становилось мнѣ, когда пристально вглядываясь въ меня и какъ будто вытягивая глазами изъ меня ту мысль, которую ему хотѣлось, онъ вдругъ, выслушавъ меня, говаривалъ тронутымъ голосомъ, которому онъ старался дать шутливый тонъ: — Да, да, въ васъ есть. Вы отличная дѣвушка, это я долженъ вамъ сказать. Вы интересная дѣвушка, не interessante, а интересная, [такъ] что мнѣ хотѣлось бы узнать конецъ отличной вещи, которую я въ васъ читаю.
И вѣдь за что я получала тогда такія награды, обхватывавшiя всю мою душу счастіемъ? За то, что я говорила, какъ трогательна любовь старика Григорья къ своей внучкѣ, что какъ онъ по своему хорошо любитъ ее, и что я прежде этаго не понимала. Или за то, что мнѣ совѣстно бываетъ отчего-то гуляя проходить мимо крестьянокъ, когда они работаютъ, и хотѣлось бы подойти къ ихъ люлькамъ, но не смѣю. Или что Бетховен поднимаетъ меня на свѣтлую высоту, что летаешь съ нимъ, какъ во снѣ на крыльяхъ. Или за то, что слезы у меня навернутся, читая «Для береговъ отчизны дальней». И все это, какъ теперь вспомню, не мои чувства, а его, которыя смутно лепетали мои дѣтскія уста. И удивительно мнѣ подумать, какимъ необыкновеннымъ чутьемъ угадывала я тогда все то, что надо было любить, и что только гораздо послѣ онъ открылъ мнѣ и заставилъ полюбить.
* № 3 (I ред.).
Но хотя я не смѣла признаться себѣ, что люблю, я уже ловила во всемъ признаковъ его любви ко мнѣ. Его къ концу лѣта больше и больше сдержанное обращеніе со мной, его частыя посѣщенія несмотря на дѣла, его счастливый видъ у насъ наводили меня на эту догадку. Но чуть-чуть я взглядомъ, словомъ показывала свою радость и надежду, онъ спѣшилъ холодно-покровительственнымъ тономъ, иногда больно и грубо разбить эту надежду. Но я еще сильнѣе надѣялась, чувствуя, что онъ боится меня. — Къ концу лѣта онъ сталъ рѣже ѣздить, но на мое счастье нашъ прикащикъ заболѣлъ во время самой уборки хлѣба, и онъ долженъ былъ пріѣзжать на наше поле и не могъ не заѣзжать къ намъ.
* № 4 (I ред.).
— Какже, неужели вы никогда не говорили: — Я васъ люблю, — спросила я смѣясь.
— Не говорилъ и не буду говорить навѣрное, и на колѣно одно не становился и не буду, — отвѣчалъ онъ. <А черезъ недѣлю онъ мнѣ говорилъ эти слова и говорилъ невольно, изъ всей души, и были знаменья, и слова эти были эпохой въ нашей жизни. И въ словахъ этихъ было все лучшее счастье и моей, и его жизни. Ему, казалось, былъ непріятенъ разговоръ на эту тему, онъ подозвалъ Соню и сталъ ей разсказывать сказку.
— Да вы хорошенькую разскажите, чтобы и нам слушать можно было, — сказала Маша.
— Хорошо, постараюсь.
— Исторію разскажи, — сказала Соня, — чтобъ похоже было.
— Хорошо, самую похожую. Я вамъ исторію разскажу, и онъ взглянулъ на меня. Я усѣлась подлѣ него и стала слушать. Соня сѣла къ нему на колѣни. Онъ обращался къ ней и не смотрѣлъ уже на меня. Вотъ что онъ разсказалъ.
— Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жила была одна принцесса.[56]
— Какъ ее звали? — спросила Соня.
— Звали ее..... Никитой.
Соня захохотала.
— Только у барышни Никиты не было ни отца, ни матери.
— Какъ у насъ, — сказала Соня.
— Да ты не перебивай. Была только у нея волшебница, которая очень полюбила ее. Волшебница разъ пришла къ ней ночью и сказала: — Ты хорошая принцесса, я тебя люблю и хочу дать счастье. Чего ты, говоритъ, хочешь? — А Никита не знала, чего она[57] хочетъ, и говоритъ: — Я не знаю. — А ежели не знаешь, такъ вотъ тебѣ два пузырька,[58] въ нихъ самое лучшее счастье. — Что же, говоритъ, съ ними дѣлать? — А вотъ что. Носи ты всегда эти пузырьки при себе, подлѣ сердца, и когда тебѣ захочется счастья, возьми голубенькой пузырекъ, выпей сама, а красненькой дай выпить какому нибудь человеку, который бы былъ не много старше тебя, и будешь счастлива.
— Отчего? — спросила Соня.
— Оттого, что будешь всю [жизнь] любить другъ друга съ этимъ человѣкомъ.
— И вкусно это, что въ пузырькѣ[59] было? — спросила Соня.
— Вотъ увидишь. Только вотъ что, — говоритъ волшебница, — ежели ты не сразу выпьешь свой пузырекъ и тому человѣку не весь отдашь, то вмѣсто счастья будетъ тебѣ несчастье и тѣмъ, кому ты будешь давать пить, и еще говоритъ, ежели ты перепутаешь и сама будешь пить изъ красненькаго, тоже будетъ тебѣ несчастье. А ежели прольешь, разобьешь или понемногу раздашь изъ пузырьковъ эту воду, то ужъ другихъ тебѣ не будетъ. — Ну хорошо. Только у принцесы былъ одинъ пріятель, тоже Принцъ,[60] который часто къ ней ѣздилъ въ гости и очень любилъ ее.