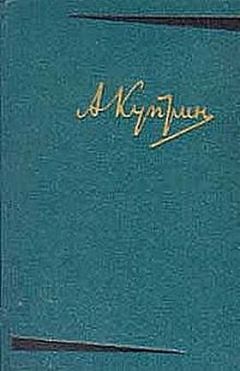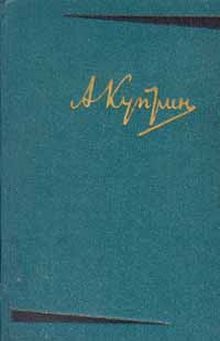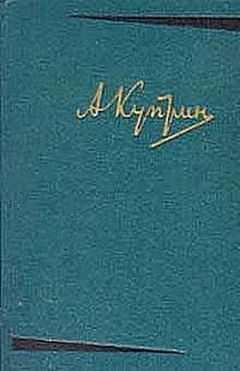Александр Куприн - Юнкера
- Вот вам мои коньки. Возьмите. А я немного помогу вам. - Она ловко склонилась и слегка приподняла суконную юбочку. Перед глазами юнкера на мгновение показалась изящная ножка с высоким подъемом. Это вдруг умилило Александрова чуть не до слез: "Господи, какая она прелесть и душенька. И как я люблю ее. Пусть вся ее жизнь будет радостна и светла".
- Вам ловко? Вам не больно? Вам удобно? - спрашивает он с нежной заботливостью. Но Зиночка чувствует себя превосходно. Коньки сегодня точно веселят ноги, и какой день чудесный выдался. Она сходит по ступенькам на лед, громыхая сталью по дереву и с очаровательной неуклюжестью поддерживая равновесие. На льду она делает широкий, красивый круг и, остановившись у лестницы, возбужденно кричит Александрову:
- Сходите скорее на лед. Побежим вместе, да живо, живо.
Александров сбрасывает с себя шинель и шумно сбегает вниз. Они берутся за руки и плывут по длинному катку, одновременно набирая инерцию короткими и сильными толчками. Александров с восторгом чувствует в ней отличную конькобежицу.
- Снимите перчатки, - предлагает она, - теперь не холодно, а без перчаток удобнее и приятнее.
"Ах, в миллион раз приятнее!" - восторженно думает Александров, осторожно и крепко держа в своей грубой ладони ее доверчивую, ласковую, нежную ручку. Они переплетают свои руки наискось и так летят, близко, близко касаясь друг друга, и, как тогда, в вальсе, Александров слышит порою чистый аромат ее дыхания. Потом они садятся на скамейку отдохнуть.
- Помните наш вальс в институте? - спрашивает Зиночка.
- Как же, - отвечает юнкер, - до конца моих дней не забуду. - И спрашивает в свою очередь:
- А помните, как нас чуть не опрокинул этот долговязый катковский лицеист?
Он ловит в ее многоцветных зрачках какие-то задорные искры и молчит. Она же отвечает с едва-едва сдерживаемым смехом, но и с легкой краской стыда:
- Представьте, не помню. Вероятно, забыла. Помню только, что танцевать с вами было так приятно, так удобно и так ловко, как ни с кем.
Этот случай с лицеистом повлек за собою новые воспоминания из их коротенького прошлого, освещенного сиянием люстр, насыщенного звуками прекрасного бального оркестра, обвеянного тихим ароматом первой, наивной влюбленности.
- А вы помните, как мы поссорились? - спрашивает Зиночка.
- И как мило помирились, - отвечает Александров. - Боже, как я был тогда глуп и мнителен. Как бесился, ревновал, завидовал и ненавидел. Вы одним взглядом издалека внесли в мою несчастную душу сладостный мир. И подумать только, что всю эту бурю страстей вызвала противная, замаринованная классная дама, похожая на какую-то снулую рыбу - не то на севрюгу, не то на белугу...
Зиночка осторожно положила пальцы на его горячую руку.
- Оставьте, оставьте, не надо. Нехорошо так говорить. Что может быть хуже заочного, безответственного глумления. Нащокина умная, добрая и достойная особа. Не виновата же она в том, что ей приходится строго исполнять все параграфы нашего институтского полумонастырского устава. И мне тем более хочется заступиться за нее, что над ней так жестоко смеется... - она замолкает на минуту, точно в нерешимости, и вдруг говорит, - смеется мой рыцарь без страха и упрека.
Александров потрясен. Он еще не перерос того юношеского козлиного возраста, когда умный совет и благожелательное замечание так легко принимается за оскорбление и вызывает бурный протест. Но кроткая и милая нотация из уст, так прекрасно вырезанных в форме натянутого лука, заливает все его существо теплом, благодарностью и преданной любовью. Он встает со скамейки, снимает барашковую шапку и в низком поклоне опускает ее до ледяной поверхности.
- Прошу простить мне мою дурацкую выходку, - говорит он с неподдельным раскаянием, - также примите мои глубокие извинения перед madame Нащекиной.
- Наденьте скорее шапку, - говорит Зиночка. - Вы простудитесь. Ах! Наденьте же, наденьте.
И они опять сидят на скамейке, слушая музыку. Теперь они прямо глядят друг другу в глаза, не отрываясь ни на мгновение. Люди редко глядят так пристально один на другого. Во взгляде человеческом есть какая-то мощная сила, какие-то неведомые, но живые излучающие флюиды, для которых не существует ни пространства, ни препятствий. Этого волшебного излучения никогда не могут переносить люди обыкновенные и обыкновенно настроенные; им становится тяжело, и они невольно отводят глаза, отворачивают головы в первые же моменты взгляда. Люди порочные, преступные и слабовольные совсем избегают человеческого взгляда, как и большинство животных. Но обмен ясными, чистыми взорами есть первое истинное блаженство для скромных влюбленных. "Любишь?" - спрашивают искристые глаза Зиночки, и белки их чуть-чуть розовеют.
"Люблю, люблю, - отвечают глаза Александрова, сияющие выступившей на них прозрачной влагой. - А ты меня любишь?" - "Люблю". - "Любишь". "Люблю". - "Любишь". - "Люблю". - "Любишь". - "Люблю"... Самого скромного, самого застенчивого признания не смогли бы произнести их уста, но эти волнующие безмолвные возгласы: "Любишь. - Люблю", - они посылают друг другу тысячу раз в секунду, и нет у них ни стыда, ни совести, ни приличия, ни осторожности, ни пресыщения. Зиночка первая стряхивает с себя магическое сладостное влияние флюидов. "Люблю, но ведь мы на катке", - благоразумно говорят ее глаза, а вслух она приглашает Александрова:
- Пойдемте еще покатаемся. Попробуем теперь голландскими шагами. Или как надо говорить - гигантскими?
Они опять берутся за руки, но теперь по требованию фигурного номера держатся на большом расстоянии, идут параллелью. Они одновременно вычерчивают правыми ногами огромный полукруг, склоняясь всем телом на правую сторону, и, окончив его, тотчас же переходят на другой большой полукруг, делая его левыми ногами и наклоняясь круто влево. Чем шире круг и чем ниже наклоны, тем красивее и чище считается фигура. Но голландские шаги не очень легкое упражнение. Чтобы вычертить особенно правильный и особенно широкий круг, надо сделать толчок по льду с наивозможнейшей силой, и эти старания скоро утомляют. Опять Зиночка сидит с Александровым, и опять их глаза поют чудесную многовековую песню: "Любишь - люблю. - Любишь люблю..." - простую, но самую великую в мире песню. Но к ним, на сильном разбеге, подлетают мисс Дэлли с Венсаном.
- Ну, я вам скажу, и барышня - говорит восхищенно Венсан. - Ах, какая артистка на коньках. Я в сравнения с ней в полотерные мальчики не гожусь. Неужели все ирландские красавицы такие искусницы?.. Кстати, не хотите ли вы поглядеть образцы высшего фигурного патинажа? Сейчас только что приехал на каток знаменитый конькобежец Постников. Он, между прочим, заведует гимнастическими упражнениями в нашем Александровском училище. Пойдемте, пока не навалила публика. Потом не протолпишься.
Они пошли к судейской площадке. На ней стоял в белой фуфайке и белом берете давно знакомый юнкерам Постников, стройный и казавшийся худощавым, бритый по-английски, еще молодой человек, любимец всей спортивной Москвы, впрочем, не только спортивной. Вся Москва от мала до велика ревностно гордилась своими достопримечательными людьми: знаменитыми кулачными бойцами, огромными, как горы, протодиаконами, которые заставляли страшными голосами своими дрожать все стекла и люстры Успенского собора, а женщин падать в обмороки, знаменитых клоунов, братьев Дуровых, антрепренера оперетки и скандалиста Лентовского, репортера и силача Гиляровского (дядю Гиляя), московского генерал-губернатора, князя Долгорукова, чьей вотчиной и удельным княжеством почти считала себя самостоятельная первопрестольная столица, Сергея Шмелева, устроителя народных гуляний, ледяных гор и фейерверков, и так без конца, удивительных пловцов, голубиных любителей, сверхъестественных обжор, прославленных юродивых и прорицателей будущего, чудодейственных, всегда пьяных подпольных адвокатов, свои несравненные театры и цирки и только под конец спортсменов. И все это в пику чиновному Петербургу: "У вас в Питере так-то, а у нас, в Москве, в сто раз хлеще. Куда вам, сопливым". Постников издали узнал юнкеров и, снявши с головы берет, высоко помахал им:
- Здравствуйте, господа юнкера-александровцы.
Юнкера ответили со смехом:
- Здравия желаем, господин учитель.
И тогда Постников, очевидно, давно знавший вес и силу публичной рекламы, громко сказал кому-то, стоявшему с ним рядом на площадке:
- Самые лучшие мои ученики. Прекрасные гимнасты Александровского военного училища.
В толпе, теперь уже довольно большой, послышались густые, прерывистые звуки, точно холеные лошади зареготали на принесенный овес. Москва в число своих фаворитов неизменно включала и училище в белом доме на Знаменке, с его молодцеватостью и вежливостью, с его оркестром Крейнбринга и с превосходным строевым порядком на больших парадах и маневрах.
- Нет, это вам не жидкий, золотушный Петербург, а московские богатыри, кровь с молоком.