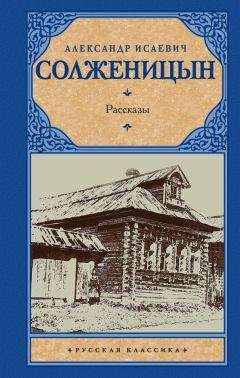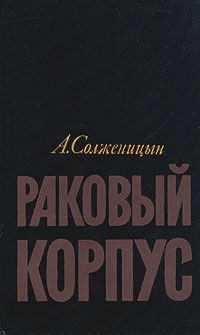Александр Солженицын - В круге первом
Нержин вздохнул.
– Ты знаешь, я даже не против того, чтобы признать Творца Мира, некий Высший Разум вселенной. Да я даже ощущаю его, если хочешь. Но неужели, если б я узнал, что Бога нет, – я был бы менее морален?
– Без-условно!!
– Не думаю. И почему обязательно ты хочешь, вы всегда хотите, чтоб непременно признать не только Бога вообще, но обязательно конкретного христианского, и триединство, и непорочное зачатие… А в чём пошатнётся моя вера, мой философский деизм, если я узнаю, что из евангельских чудес ни одного вовсе не было? Да ни в чём!
Сологдин строго поднял руку с вытянутым пальцем:
– Нет другого пути! Если ты усумнишься хоть в одном догмате веры, хоть в одном слове Писания, – всё разрушено!! ты – безбожник!
Он так секанул рукою по воздуху, будто в ней была сабля.
– Вот так вы и отталкиваете людей! всё – или ничего! Никаких компромиссов, никакой поблажки. А если я в целом принять не могу? что мне выдвинуть? чем загородиться? Я и говорю: я только то и знаю, что ничего не знаю.
Взял пилу, подмастерье Сократа, и другой ручкой протянул Сологдину.
– Ладно, об этом – не на дровах, – согласился тот.
Они уже обстывали и весело взялись за пиление. Пила брызнула коричневым порошком коры. Пила шла не так ловко, как со Спиридоном, но всё же легко. Друзья за многие утра спилились, и дело у них обходилось без взаимных упрёков. Они пилили с тем особенным рвением и наслаждением, какое даёт неподневольный и не вызванный нуждою труд.
Только перед четвёртым резом ярко разрумянившийся Сологдин буркнул:
– Сучка бы не зацепить…
И после четвёртого чурбака Нержин пробормотал:
– Да, сучковатое, падло.
Душистые, то белые, то жёлтые, опилки с каждым шорохом пилы ложились на брюки и ботинки пильщиков. Мерная работа вносила покой и перестраивала мысли.
Нержин, проснувшийся нынче в дурном настроении, сейчас думал, что лагеря только в первый год могли оглушить его, что теперь у него совсем другое дыхание: он не станет карабкаться в придурки, не станет бояться общих, – а будет медленно, со знанием жизненных глубин выходить на утренний развод в телогрейке, вымазанной штукатуркой или мазутом, тянуть резину весь двенадцатичасовой день – и так все пять лет, оставшиеся до конца срока. Пять лет – это не десять. Пять лет выжить можно. Лишь постоянно себе напоминать: тюрьма не только проклятье, она и благословенье.
Так он размышлял, в очередь потягивая пилу. И никак бы не мог вообразить, что напарник его, потягивая пилу в свою сторону, думал о тюрьме только как о чистом проклятии, из-под которого надо же когда-то вырваться.
Сологдин думал сейчас о том большом и обещающем ему свободу успехе, которого он совершенно скрытно достиг за последние месяцы в своей казённой работе. Решающий приговор этой работе он должен был выслушать после завтрака и заранее предвидел одобрение. С буйной гордостью думал сейчас Сологдин о своём мозге, истощённом столькими годами то следствий, то голода лагерей, столько лет лишённом фосфора и вот сумевшем же справиться с выдающейся инженерной задачей! Как это заметно у мужчин к сорока годам – взлёт жизненных сил! Особенно если избыток их плоти не направлен в деторождение, а таинственным образом преобразуется в сильные мысли.
27. Немного методики
А между тем они пилили и пилили, тела их разгорячились, жаром пышели лица, телогрейки уже были сброшены на брёвна, чурбаки доброй горкой громоздились у козел, – топора же всё не было.
– А не хватит? – спросил Нержин. – Небось не переколем.
– Отдохнём, – согласился Сологдин, отставляя пилу со звоном изогнувшегося полотна.
Оба стянули с голов шапки. От густых волос Нержина и редеющих волос Сологдина пошёл пар. Они дышали глубоко. Воздух будто проходил в самые затхлые уголки их нутра.
– Но если тебя сейчас отправят в лагерь, – спросил Сологдин, – как же будет с твоей работой по Новому Смутному Времени? (Это значило – по революции.)
– Да как? Ведь я не избалован и здесь. Хранение единой строки одинаково грозит мне казематом что там, что здесь. Допуска в публичную библиотеку у меня нет и тут. К архивам меня и до смерти, наверно, не подпустят. Если говорить о чистой бумаге, то уж бересту или сосновую кору найду я и в тайге. А преимущества моего никакими шмонами не отнять: горе, которое я испытал и вижу на других, может мне немало подсказать догадок об истории, а? Как ты думаешь?
– Ве-ли-ко-лепно!! – густым выдохом отдал Сологдин. – Значит, ты кое-что уже понял. Значит, ты уже отказался сперва пятнадцать лет читать все книги по заданному вопросу?
– Отчасти – да, отчасти – где ж я их возьму?
– Без «отчасти»! – предупредительно воскликнул Сологдин. – Ты пойми: мысль!! – он вскинул голову и руку. – Первоначальная сильная мысль определяет успех всякого дела! И мысль должна быть – своя! Мысль, как живое древо, даёт плоды, только если развивается естественно. А книги и чужие мнения – это ножницы, они перерезают жизнь твоей мысли! Сперва надо все мысли найти самому – и только потом сверять с книгами.
Сологдин испытующе посмотрел на друга:
– А тридцать красных томиков ты по-прежнему собираешься читать от корки до корки?
– Да! Понять Ленина – это понять половину революции. А где он лучше сказался, чем в своих книгах? И я найду их везде, в любой избе-читальне.
Сологдин потемнел, надел шапку и неудобно присел на козлы.
– Ты – безумец. Ты себе всю голову затарабаришь. Ты ничего не совершишь! Мой долг – предостеречь тебя.
Нержин тоже взял шапку с отрожка козел и присел на груду чурбаков.
– Будь же достоин своей… исчислительной науки. Примени способ узловых точек. Как исследуется всякое неведомое явление? Как нащупывается всякая неначерченная кривая? Сплошь? Или по особым точкам?
– Уже ясно! – торопил Нержин, он не любил размазываний. – Мы ищем точки разрыва, точки возврата, экстремальные и наконец нолевые. И кривая – вся в наших руках.
– Так почему ж не применить этого к… бытийному лицу?! – (К историческому, перевёл для себя Нержин на Язык Кажущейся Ясности.) – Охвати жизнь Ленина одним оком, увидь в ней главнейшие перерывы постепенности, крутые смены направлений – и прочти только то, что относится к ним. Как он вёл себя в эти мгновения? Тут – весь человек. А остальное тебе совершенно незачем.
– Значит, когда я спросил тебя, что делать с урками, я, не предполагая, применил к тебе метод узловых точек?
Отклонительная усмешка сузила веки вокруг ясных глаз Сологдина. Он озабоченно накинул телогрейку, пересел на козлах иначе, но всё так же неудобно.
– Ты взволновал меня, Глебчик. Теперь твой отъезд может наступить внезапно. Мы расстанемся. Один из нас погибнет. Или оба. Доживём ли мы, когда люди будут открыто встречаться и разговаривать? Мне хотелось бы успеть поделиться с тобой хоть… Хоть некоторыми выводами о путях создания единства цели, исполнителя и его работы. Они могут оказаться тебе полезными. Разумеется, мне очень помешает моё косноязычие, я как-нибудь неуклюже это изложу…
Это было в манере Сологдина! Перед тем как блеснуть мыслью, он обязательно самоуничижался.
– Ну да, твоя слабая память, – убыстрял и помогал Нержин. – И то, что ты – «сосуд ошибок»…
– Да, да, именно, – Сологдин подтвердил минующей улыбкой. – Так вот, зная своё несовершенство, я много лет в тюрьме вырабатывал для себя эти правила, которые железным обручем собирают волю. Эти правила – как бы общий огляд на пути подхода к работе.
Методика, привычно перевёл Нержин с Языка Предельной Ясности. Плечи зябли, и он тоже накинул телогрейку.
По прибывающему свету дня видно было, что скоро им бросать дрова и идти на утреннюю поверку. Вдалеке, перед штабом спецтюрьмы, под купою волшебно-обелённых марфинских лип мелькала утренняя арестантская прогулка. Среди гуляющих возвышались худая прямая фигура пятидесятилетнего художника Кондрашёва-Иванова и согнутая в плечах, но тоже очень долгая – бывшего сталинского домашнего, а теперь забытого, архитектора Мержанова. Видно было и как Лев Рубин, проспавший, пытался теперь прорваться «на дрова», но надзиратель уже его не пускал: поздно.
– Смотри, вон Лёвка с растрёпанной бородой.
Засмеялись.
– Так вот хочешь, я буду каждое утро сообщать тебе оттуда какие-нибудь положения?
– Давай. Попробуем.
– Ну, например: как относиться к трудностям?
– Не унывать?
– Этого мало.
Мимо Нержина Сологдин смотрел за зону, на мелкие густые заросли, опушённые инеем и чуть тронутые неуверенной розоватостью востока: солнце колебалось, показаться или нет. Лицо Сологдина, собранное, худощавое, со светлой курчавящейся бородкой и короткими светлыми усами, чем-то напоминало лик Александра Невского.
– Как относиться к трудностям? – вещал он. – В области неведомого надо рассматривать трудности как скрытый клад! Обычно: чем труднее, тем полезнее. Не так ценно, если трудности возникают от твоей борьбы с самим собой. Но когда трудности исходят от увеличившегося сопротивления предмета – это прекрасно!! – Словно розовая заря промелькнула по разрумяненному лицу Александра Невского, неся в себе отблеск прекрасных, как солнце, трудностей. – Самый благодарный путь исследования: наибольшее внешнее сопротивление при наименьшем внутреннем. Неудачи следует рассматривать как необходимость дальнейшего приложения усилий и сгущения воли. А если усилия уже были приложены значительные – тем радостней неудачи! Это значит, что наш лом ударил в железный ящик клада!! И преодоление увеличенных трудностей тем более ценно, что в неудачах происходит рост исполнителя, соразмерный встреченной трудности!