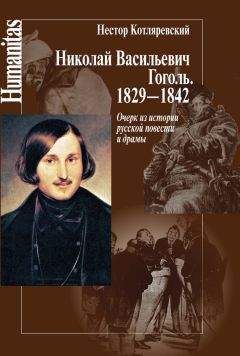Николай Гоголь - Духовная проза (сборник)
Чтение поэтов всех народов и веков порождало в нем тот же отклик. Герой испанский Дон-Жуан, этот неистощимый предмет бесчисленного множества драматических поэм, дал ему вдруг идею сосредоточить все дело в небольшой собственной драматической картине, где еще с большим познанием души выставлен неотразимый соблазн развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышней сама Испания. Гетев Фауст навел его вдруг на идею сжать в двух-трех страничках главную мысль германского поэта, — и дивишься, как она метко понята и как сосредоточена в одно крепкое ядро, несмотря на всю ее неопределенную разбросанность у Гете. Суровые терцины Данта внушили ему мысль в таких же терцинах и в духе самого Данта изобразить поэтическое младенчество свое в Царском Селе, олицетворить науку в виде строгой жены, собирающей в школу детей, и себя — в виде школьника, вырвавшегося из класса в сад затем, чтобы остановиться перед древними статуями с лирами и циркулями в руках, говорившими ему живей науки, где видно, как уже рано пробуждалась в нем эта чуткость на всё откликаться.
И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу — он русский весь с головы до ног: все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем.
Свойство это в нем разрасталось постепенно, и он откликнулся бы потом целиком на всю русскую жизнь, так же как откликался на всякую отдельную ее черту. Мысль о романе, который бы поведал простую, безыскусственную повесть прямо русской жизни, занимала его в последнее время неотступно. Он бросил стихи единственно затем, чтобы не увлечься ничем по сторонам и быть проще в описаньях, и самую прозу упростил он до того, что даже не нашли никакого достоинства в первых повестях его. Пушкин был этому рад и написал «Капитанскую дочь», решительно лучшее русское произведенье в повествовательном роде. Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственною пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей — всё не только самая правда, но еще как бы лучше ее. Так оно и быть должно: на то и призванье поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде. Все показывало в Пушкине, что он на то был рожден и к тому стремился. Почти в одно время с «Капитанской дочкой» оставил он мастерские пробы романов: «Рукопись села Горюхина», «Царский арап» и сделанный карандашом набросок большого романа — «Дубровский». В последнее время набрался он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучших стихов; но еще замечательней было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизни. Отголоски этого слышны в изданном уже по смерти его стихотворенье, в котором звуками почти апокалипсическими изображен побег из города, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния. Много готовилось России добра в этом человеке… Но, становясь мужем, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться с большими делами, не подумал он о том, как управиться с ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдруг от нас — и все в государстве услышало вдруг, что лишилось великого человека.
Влияние Пушкина как поэта на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только в начале его поэтического поприща, когда он первыми молодыми стихами своими напомнил было лиру Байрона; когда же пришел он в себя и стал наконец не Байрон, а Пушкин, общество от него отвернулось. Но влияние его было сильно на поэтов. Не сделал того Карамзин в прозе, что он в стихах. Подражатели Карамзина послужили жалкой карикатурой на него самого и довели как слог, так и мысли до сахарной приторности. Что же касается до Пушкина, то он был для всех поэтов, ему современных, точно сброшенный с Неба поэтический огонь, от которого, как свечки, зажглись другие самоцветные поэты. Вокруг его вдруг образовалось их целое созвездие: Дельвиг, поэт-сибарит, который нежился всяким звуком своей почти эллинской лиры и, не выпивая залпом всего напитка поэзии, глотал его по капле, как знаток вин, присматриваясь к цвету и обоняя самый запах; Козлов, гармонический поэт, от которого раздались какие-то дотоле не слышанные, музыкально-сердечные звуки; Баратынский, строгий и сумрачный поэт, который показал так рано самобытное стремление мыслей к миру внутреннему и стал уже заботиться о материальной отделке их, тогда как они еще не вызрели в нем самом; темный и неразвившийся, стал себя выказывать людям и сделался чрез то для всех чужим и никому не близким. Всех этих поэтов возбудил на деятельность Пушкин; других же просто создал. Я разумею здесь наших так называемых антологических поэтов, которые произвели понемногу; но если из этих немногих душистых цветков сделать выбор, то выйдет книга, под которою подпишет свое имя лучший поэт. Стоит назвать обоих Туманских, А. Крылова, Тютчева, Плетнева и некоторых других, которые не выказали бы собственного поэтического огня и благоуханных движений душевных, если бы не были зажжены огнем поэзии Пушкина. Даже прежние поэты стали перестраивать лад лир своих. Известный переводчик Илиады Гнедич, пролагатель псалмов Ф. Глинка, партизан-поэт Давыдов, наконец сам Жуковский, наставник и учитель Пушкина в искусстве стихотворном, стал потом учиться сам у своего ученика. Сделались поэтами даже те, которые не рождены были поэтами, которым готовилось поприще не менее высокое, судя по тем духовным силам, какие они показали даже в стихотворных своих опытах, как-то: Веневитинов, так рано от нас похищенный, и Хомяков, слава Богу еще живущий для какого-то светлого будущего, покуда еще ему самому не разоблачившегося. Сила возбудительного влияния Пушкина даже повредила многим, особенно Баратынскому, и еще одному поэту, о котором будет речь ниже, — повредила именно тем, что они стали передавать невызревшие движенья души своей, тогда как самая душа не набралась еще поэзии, доступной и близкой другим, и когда определено было им совершить прежде свое внутреннее воспитание и до времени умолкнуть. Всех соблазнила эта необыкновенная художественная отработка стихотворных созданий, которую показал Пушкин. Позабыв и общество, и всякие современные связи с ним человека, и всякие требования земли своей, все жило в какой-то поэтической Элладе, повторяя стихи Пушкина:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Из поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков. С появленьем первых стихов его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удаль всякого выраженья, свет молодого восторга и язык, который в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности господину еще не являлся дотоле ни в ком. Имя Языков пришлось ему недаром. Владеет он языком, как араб диким конем своим, и еще как бы хвастается своею властью. Откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный. Все, что выражает силу молодости, не расслабленной, но могучей, полной будущего, стало вдруг предметом стихов его. Так и брызжет юношеская свежесть ото всего, к чему он ни прикоснется. Вот его купанье в реке:
Покровы прочь! Перед челом
Протянем руки удалые
И — бух!
Блистательным дождем
Взлетают брызги водяные.
Какая сильная волна!
Какая свежесть и прохлада!
Как сладострастна, как нежна
Меня обнявшая наяда!
Вот у него игра в свайку, которую он назвал пряморусскою игрою. Юноши-молодцы стали в кружок:
Тяжкий гвоздь стойком и плотно
Бьет в кольцо — кольцо бренчит.
Вешний вечер беззаботно
И невидимо летит.
Все, что вызывает в юноше отвагу, — море, волны, буря, пиры и сдвинутые чаши, братский союз на дело, твердая как кремень вера в будущее, готовность ратовать за отчизну, — выражается у него с силой неестественной. Когда появились его стихи отдельной книгой, Пушкин сказал с досадой: «Зачем он назвал их: „Стихотворенья Языкова“! их бы следовало назвать просто: „хмель“! Человек с обыкновенными силами ничего не сделает подобного; тут потребно буйство сил». Живо помню восторг его в то время, когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина (Пушкин никогда не плакал; он сам о себе сказал в послании к Овидию: «Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их»). Я помню те строфы, которые произвели у него слезы: первая, где поэт, обращаясь к России, которую уже было признали бессильною и немощной, взывает так: