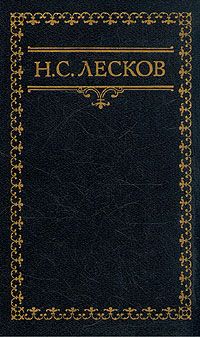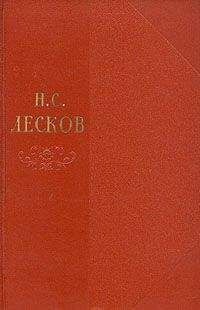Ион Друцэ - Бремя нашей доброты
Она повернулась и вышла рывком, стремительно, а Онаке пока по-старчески поднялся со скамеечки, пока нашел, куда положить зеркальце и ножницы, пока выбрался на улицу, Нуцы уже не было. Ни вдоль дороги не видно было ее, ни напрямик, по садам, по тропинкам не слышны были ее шаги. Над селом висели усталые летние сумерки, и все стихло, засыпая. Онаке стоял, прислонившись к своей калитке, прислушивался к ночной тиши, и все чудилось ему, что Нуца опять разревелась, и придет домой вся в слезах, и ночью опять бог весть что приснится.
Она была его родной дочерью, побегом плоти его. Вместе с Нуцей принялась горевать и душа Онакия, и, пока он стоял там у калитки, горе дочери каким-то образом стало большим и непоправимым горем его самого.
Осенение
Мирчу железо доконало. Это знали все в деревне, и он сам это знал. Ему говорили: смотри, эти шутки добром не кончатся; он это и сам понимал, но уже ничего не мог с собой поделать. Железо всегда было его самым большим увлечением. С самых ранних лет оно завораживало его своей тяжестью, прочностью, какой-то дьявольской неподатливостью.
Все нехитрые железные предметы крестьянского быта, водившиеся у них в хозяйстве, - молоток, топорик, ножи - все это представлялось ему самым большим достатком семьи, богатством, которое ему суждено было унаследовать. С малых лет его руки тянулись к железу, а если кто из взрослых брал молоток, или нож, или топорик, он шел за ним и потом, затаив дыхание, следил за тем невероятным чудом, которое называлось - железо в работе.
Уже мальчуганом он открыл для себя кузницу, увидел наконец того знаменитого волшебника, который мог низвергнуть железо с его высот, а затем, придав ему новый лик, новый смысл, вернуть на ту же недосягаемость. И с тех пор все его помыслы были так или иначе связаны с кузницей, и когда отец, или кто из родни, или соседи шли к кузнецу, он бежал следом за ними и там, под прокуренным навесом, забравшись в самый дальний уголок, переживал вместе с кузнецом все радости и горести наковальни.
Железо ему не давало покоя, и уже подростком он завел себе свой потайной уголок, затащил туда ящик всевозможных железяк, загнал старый топор в какую-то чурку и устроил наковальню. В нем уже зрел кузнец, и каждую свободную минутку он бежал туда, в свой уголок. Стояло ему только присесть, и весь тот ящик, все железо становилось осмысленным, ценным, очень нужным людям - надо было только чуть подрезать, или удлинить, или выпрямить.
- Плюнул бы ты на все это! - говорила мать, видя, как он мучается, чтобы ухватить ложку ушибленными пальцами. - Бросил бы ты эти железяки, они до хорошего не доведут.
Железо, однако, не успело довести его ни до хорошего, ни до плохого. Пареньком он встретил Нуцу - встретил ночью в поле, возвращаясь с полной телегой сена. Затем поженились, потом ушел в армию, а там война. Около двух лет, как и все бессарабцы, он рыл окопы в трудовой армии; потом, когда его малая родина была освобождена, его посадили на танк. Война уже шла к концу, когда ему вдруг стали сниться свежие борозды и бог знает с чего припомнился ящик с железяками и старая наковальня.
Железо, несомненно, было его судьбой. С возвращением оно стало все больше и больше занимать его, покуда не завладело всем существом. В конечном счете он стал трактористом, и железо стало его единственным другом в широком ветреном поле. С ранней весны и до поздней осени, с первой зорьки и до сумерек было одно железо вокруг. Он видел его всяким: и остывшим, и раскаленным, и бездыханным, и грохочущим, и умным, и тупым. Были времена, когда он дня не мог прожить без железа, потом видеть его не мог, после чего сник, присмирел, и вот уже четвертая осень наступала, а они все вдвоем - он и железо. И железо в конце концов доконало его.
Наши первые трактористы! Это длинный сказ, когда, откуда, каким образом появились они в Сорокской степи, но мучения их начинались в сорок четвертом, когда бои еще гремели в Карпатах. Тогда на территории Бессарабии, в барских усадьбах, расположенных, как правило, на перекрестках больших дорог, связывающих между собой степные деревушки, начали создаваться машинно-тракторные станции. Правда, поначалу ни машин, ни тракторов не было. Затем начали они прибывать с большими перебоями, и МТС с боями вырывали их друг у друга. Еще меньше было трактористов - МТС их разыскивали, переманивали, ссорились из-за них, по вот наступила бурная пора подготовки местных кадров.
Как ни странно, а крестьянам эта затея с самого начала не понравилась. Хорошему делу, думали они, тебя так задаром никто не обучит, а если задаром, значит, тут что-то не так. К тому же, говорили они, у нас есть лошади, у нас есть чудные кони, а теперь, значит, куда их? При постановке подобных вопросов стали созываться общие собрания, которые начинались с международной обстановки, которая всегда была крайне сложна, а когда к полуночи добирались до своих наболевших дел, ораторы патетически вопрошали:
- Товарищи, да есть ли у вас совесть?!
Это решило все. Молдаванин упрям по природе, но если апеллировать к его совести, он тут же сдается, И курсы трактористов начали действовать. Молодые парни, еще совсем подростки, и вчерашние фронтовики, и много разных других выходили чуть свет из своих деревень и медленно плелись к МТС по мокрым, оголенным, чуть прихваченным морозом полям. Они шли, чтобы доказать, что у них есть совесть, а заодно узнать, в чем хитрость четырехколесных громад и как эти таинственные, невидимые простым глазом лошадиные силы выходят в поле и пашут шести-, восьми- и даже двенадцатилемешным плугом.
Потом наступил голод, но они по-прежнему ходили каждый день в МТС. Они уже бредили машинами, и промасленные спецовки старых механиков казались им одеждой избранных; они понимали, что кончился старый век и наступил новый, но не любовь к таинственной профессии тракториста, не понимание существа новой эпохи, а самый обыкновенный страх, страх перед голодной смертью поднимал их чуть свет. Наскоро зашнуровав худые ботинки, они выходили околицами в поле и медленно брели к МТС. Они шли, и каждый про себя думал о том, как там, в МТС, после двухчасового урока им выдадут по пятьсот граммов сыроватого, но настоящего ржаного хлеба и тарелку горохового супа. Суп они съедят сами, а хлеб понесут домой.
Два часа подряд, сидя в барских покоях, на чистом, ухоженном полу, они, пока шел урок, гадали про себя, каким же он будет на вид, тот кусок хлеба, который им предстоит получить, и будет ли его ровно пятьсот граммов, или, на их счастье, чуть больше. И еще они думали, в какой бы карман его понадежнее припрятать и о чем бы таком задуматься дорогой, чтобы увлечь себя и не дать рукам ощипывать его.
Грамота у них была разная - у кого четыре, у кого шесть, у кого и вовсе два класса. Способности у них тоже были разные, и по-русски они тоже плохо понимали, им бы еще учиться да учиться, но наступила неожиданно рано весна, их посадили на трактора и отправили в поле пахать. Может, потому, что все делалось в большой спешке, никто не пожелал им доброго часа. И правда, начало было на редкость неудачным. Закон обязывал колхозы три четверти своих земель обрабатывать только тракторами. Деревни держали по конюшням сотни отличных лошадей, а поля кругом лежали невспаханными, потому что трактора стояли в борозде неподвижно, наполовину разобранные. Машины были хорошие, в основном новые, но эта извечная наша беда - нехватка запасных частей! Их называли губошлепами и поговаривали, что, пока они сидели на полу в барских покоях и слушали про функции коленчатого вала, какие-то ловкачи ходили по тракторному парку, снимали с новых машин дефицитные детали, заменяя их чем попало. Теперь вот настала пора весенней вспашки, а пахать нечем. Бедные трактористы лежали целыми днями под машинами, глотали солярку, собирались по два, по три и крутили до обморока заводную ручку, но машина молчала. Усталые, они засыпали на борозде, и снилось им, как трактор завелся сам по себе, и сдвинулся с места, и прошелся по их телам тяжелыми зубчатыми колесами.
Кто их только не ругал, этих наших первых трактористов! Ругали бригадиры и директора МТС за то, что им невдомек самим стащить у кого-нибудь нужную деталь и завести машину; ругали председатели колхозов и активисты за то, что они оставляют целые деревни без пахоты и посевов; ругали собственные жены за то, что они мало зарабатывают, редко домой приходят. Даже их собственные ребятишки, навещая, рассказывали про одного соседа, который уехал в Киев с канистрой подсолнечного масла, а привез обновки для всей семьи.
Онаке Карабуш полностью разделял антимеханизаторские настроения своих односельчан. Во-первых, он с детства любил лошадей. Красивая, ухоженная лошадь была для него признаком хорошей жизни. Ему казалось, что самое большое, о чем втайне мечтает каждый чутурянин, - это пара гнедых. Теперь лошади были в опале, что такое хорошая жизнь - пойди угадай, и уже по одному этому он не мог положительно относиться к трактористам. Кроме того, он ясно сознавал предел своих возможностей, и ничто в мире не могло его заставить переступить эту черту. Он считал, что каждый порядочный человек, чтобы не оказаться в дураках, должен твердо знать, что он может, а чего нет. Теперь, видя собственными глазами, как эти ребята мучаются, он думал: зачем впутались, если знали, что это не по ним? Впрочем, это нисколько не помешало ему лет пять-шесть спустя, когда многие из них стали отличными механизаторами и хорошо зарабатывали, публично расхваливать их. Нашли способ, переступили предел своих возможностей - это его тоже восхищало.