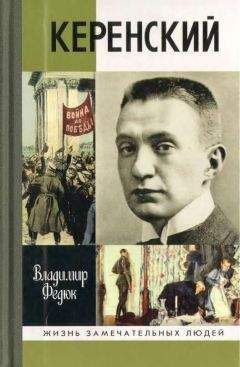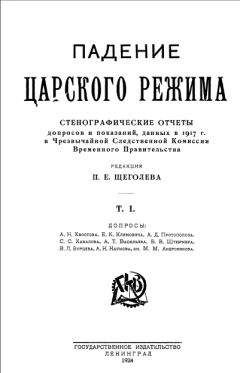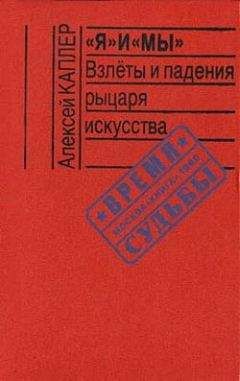Татьяна Стрыгина - Великий пост. Произведения русских писателей
– А это что за красавец? Ненавижу!
Потом захрипела, засвистала и загремела, вприпрыжку затопала полькой шарманка – и к нам, скользя, подлетел маленький, вечно куда-то спешащий и смеющийся Сулержицкий, изогнулся, изображая гостинодворскую галантность, поспешно пробормотал:
– Дозвольте пригласить на полечку Транблан…
И она, улыбаясь, поднялась и, ловко, коротко притопывая, сверкая сережками, своей чернотой и обнаженными плечами и руками, пошла с ним среди столиков, провожаемая восхищенными взглядами и рукоплесканиями, меж тем как он, задрав голову, кричал козлом:
Пойдем, пойдем поскорее
С тобой польку танцевать!
В третьем часу ночи она встала, прикрыв глаза. Когда мы оделись, посмотрела на мою бобровую шапку, погладила бобровый воротник и пошла к выходу, говоря не то шутя, не то серьезно:
– Конечно, красив. Качалов правду сказал… «Змей в естестве человеческом, зело прекрасном…»
Дорогой молчала, клоня голову от светлой лунной метели, летевшей навстречу. Полный месяц нырял в облаках над Кремлем, – «какой-то светящийся череп», – сказала она. На Спасской башне часы били три, – еще сказала:
– Какой древний звук, что-то жестяное и чугунное. И вот так же, тем же звуком било три часа ночи и в пятнадцатом веке. И во Флоренции совсем такой же бой, он там напоминал мне Москву…
Когда Федор осадил у подъезда, безжизненно приказала:
– Отпустите его…
Пораженный, – никогда не позволяла она подниматься к ней ночью, – я растерянно сказал:
– Федор, я вернусь пешком…
И мы молча потянулись вверх в лифте, вошли в ночное тепло и тишину квартиры с постукивающими молоточками в калориферах. Я снял с нее скользкую от снега шубку, она сбросила с волос на руки мне мокрую пуховую шаль и быстро прошла, шурша нижней шелковой юбкой, в спальню. Я разделся, вошел в первую комнату и с замирающим точно над пропастью сердцем сел на турецкий диван. Слышны были ее шаги за открытыми дверями освещенной спальни, то, как она, цепляясь за шпильки, через голову стянула с себя платье… Я встал и подошел к дверям: она, только в одних лебяжьих туфельках, стояла, обнаженной спиной ко мне, перед трюмо, расчесывая черепаховым гребнем черные нити длинных, висевших вдоль лица волос.
– Вот все говорил, что я мало о нем думаю, – сказала она, бросив гребень на подзеркальник и, откидывая волосы на спину, повернулась ко мне. – Нет, я думала…
На рассвете я почувствовал ее движение. Открыл глаза – она в упор смотрела на меня. Я приподнялся из тепла постели и ее тела, она склонилась ко мне, тихо и ровно говоря:
– Нынче вечером я уезжаю в Тверь. Надолго ли, один Бог знает…
И прижалась своей щекой к моей, – я чувствовал, как моргает ее мокрая ресница:
– Я все напишу, как только приеду. Все напишу о будущем. Прости, оставь меня теперь, я очень устала…
И легла на подушку.
Я осторожно оделся, робко поцеловал ее в волосы и на цыпочках вышел на лестницу, уже светлеющую бледным светом. Шел пешком по молодому липкому снегу, – метели уже не было, все было спокойно и уже далеко видно вдоль улиц, пахло и снегом и из пекарен. Дошел до Иверской, внутренность которой горячо пылала и сияла целыми кострами свечей, стал в толпе старух и нищих на растоптанный снег на колени, снял шапку… Кто-то потрогал меня за плечо – я посмотрел: какая-то несчастнейшая старушонка глядела на меня, морщась от жалостных слез:
– Ох, не убивайся, не убивайся так! Грех, грех!
Письмо, полученное мною недели через две после того, было кратко – ласковая, но твердая просьба не ждать ее больше, не пытаться искать, видеть: «В Москву не вернусь, пойду по ка на послушание, потом, может быть, решусь на постриг… Пусть Бог даст сил не отвечать мне – бесполезно длить и увеличивать нашу муку…»
Я исполнил ее просьбу. И долго пропадал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опускаясь все больше и больше. Потом стал понемногу оправляться – равнодушно, безнадежно… Прошло почти два года с того Чистого понедельника…
В четырнадцатом году, под Новый год, был такой же тихий, солнечный вечер, как тот, незабвенный. Я вышел из дому, взял извозчика и поехал в Кремль. Там зашел в пустой Архангельский собор, долго стоял, не молясь, в его сумраке, глядя на слабое мерцанье старого золота иконостаса и надмогильных плит московских царей, – стоял, точно ожидая чего-то, в той особой тишине пустой церкви, когда боишься вздохнуть в ней. Выйдя из собора, велел извозчику ехать на Ордынку, шагом ездил, как тогда, по темным переулкам в садах с освещенными под ними окнами, проехал по Грибоедовскому переулку – и все плакал, плакал…
На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители: там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освещенной церкви, из дверей горестно и умиленно неслось пение девичьего хора. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко, умоляюще:
– Нельзя, господин, нельзя!
– Как нельзя? В церковь нельзя?
– Можно, господин, конечно, можно, только прошу вас за-ради Бога, не ходите, там сичас великая княгиня Ельзавет Федровна и великий князь Митрий Палыч…
Я сунул ему рубль – он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви, за ними, вся в белом, длинном, тонколикая, в белом обрусе с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно, истово идущая с опущенными глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня; а за нею тянулась такая же белая вереница поющих, с огоньками свечек у лиц, инокинь или сестер, – уж не знаю, кто были они и куда шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них. И вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня… Что она могла видеть в темноте, как могла она почувствовать мое присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот.
12 мая 1944
Иван Шмелёв
(1873–1950)
Лето Господне
(Отрывок)
Великий пост
Чистый понедельник
Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном – как плачет. Старый наш плотник – «филенщик» Горкин, сказал вчера, что Масленица уйдет – заплачет. Вот и заплакала – кап… кап… кап… Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золоченый пряник «масленицы» – игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок, – пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж «душа начнется», – Горкин вчера рассказывал, – «душу готовить надо». Говеть, поститься, к Светлому дню готовиться.
– Косого ко мне позвать! – слышу я крик отца, сердитый.
Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий, – редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное. Но ведь он же его простил за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера был Прощеный день. И Василь Василич простил всех нас, так и сказал в столовой на коленках – «всех прощаю!». Почему же кричит отец?
Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, Масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар – священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный… – так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надо мной колышет.
– Вставай, милок, не нежься… – ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. – Где она у тебя тут, Масленица-жирнуха… мы ее выгоним. Пришел пост – отгрызу у волка хвост. На постный рынок с тобой поедем, васильевские певчие петь будут – «душе моя, душе моя» – заслушаешься.
Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий пост. И Горкин совсем особенный, – тоже священный будто. Он еще до свету сходил в баню, попарился, надел все чистое, – Чистый сегодня понедельник! – только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное наденут, так «по закону надо». И грех смеяться, и надо намаслить голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо, по закону, «для молитвы». Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие – угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных сухариков с солью, и весь пост будет с ними пить чай – «за сахар».
– А почему папаша сердитый… на Василь Василича так?
– А, грехи… – со вздохом говорит Горкин. – Тяжело тоже переламываться, теперь все строго, пост. Ну, и сердются. А ты держись, про душу думай. Такое время, все равно как последние дни пришли… по закону-то! Читай – «Господи и Владыко живота моего». Вот и будет весело.