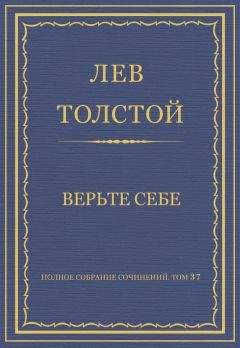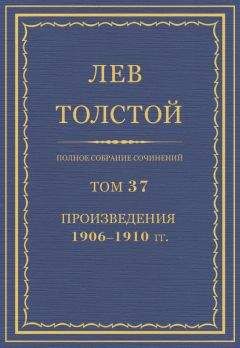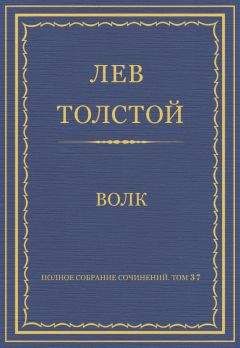Лев Толстой - Том 14. Произведения 1903-1910 гг
В предместье Маланья отпирает, и он залезает под стеганое из кусочков теплое, пропитанное запахом пота одеяло.
X
Крупная, красивая, всегда спокойная, бездетная, полная, как яловая корова, жена Петра Николаича видела из окна, как убили ее мужа и потащили куда-то в поле. Чувство ужаса при виде этого побоища, которое испытала Наталья Ивановна (так звали вдову Петра Николаича), как это всегда бывает, было так сильно, что заглушило в ней все другие чувства. Когда же вся толпа скрылась за оградой сада и гул голосов затих, и босая Маланья, прислуживавшая им девка, с выпяченными глазами прибежала с известием, точно это было что-то радостное, что Петра Николаича убили и бросили в овраге, из-за первого чувства ужаса стало выделяться другое: чувство радости освобождения от деспота с закрытыми черными очками глазами, которые девятнадцать лет держали ее в рабстве. Она сама ужаснулась этому чувству, сама себе не призналась в нем, а тем более не высказала его никому. Когда обмывали изуродованное желтое, волосатое тело и одевали и укладывали в гроб, она ужасалась, плакала и рыдала. Когда приехал следователь по особо важным делам и как свидетельницу допрашивал ее, она видела тут же, в квартире следователя, двух закованных крестьян, признанных главными виновниками. Один был уже старый с длинной белокурой бородой в завитках, с спокойным и строгим, красивым лицом, другой был цыганского склада, не старый человек с блестящими черными глазами и курчавыми, взъерошенными волосами. Она показывала, что знала, признала в этих самых людях тех, которые первые схватили за руки Петра Николаича, и, несмотря на то, что похожий на цыгана мужик, блестя и поводя глазами из-под движущихся бровей, укоризненно сказал: «Грех, барыня! Ох, умирать будем», — несмотря на это, ей нисколько не жалко было их. Напротив, во время следствия в ней поднялось враждебное чувство и желание отомстить убийцам мужа.
Но, когда через месяц дело, переданное в военный суд, было решено тем, что восемь человек были приговорены к каторжным работам, а двое, белобородый старик и черномазый цыганок, как его звали, были приговорены к повешению, она почувствовала что-то неприятное. Но неприятное сомнение это, под влиянием торжественности суда, скоро прошло. Если высшее начальство признает, что надо, то, стало быть, это хорошо.
Казнь должна была совершиться в селе. И, вернувшись в воскресенье от обедни, Маланья, в новом платье и новых башмаках, доложила барыне, что строят виселицу и к середе ждут палача из Москвы и что воют семейные не переставая, по всей деревне слышно.
Наталья Ивановна не выходила из дома, чтобы не видать ни виселиц, ни народа, и одного желала: чтобы поскорее кончилось то, что должно быть. Она думала только о себе, а не о приговоренных и их семьях.
XI
Во вторник к Наталье Ивановне заехал знакомый становой. Наталья Ивановна угостила его водкой и солеными грибками ее приготовления. Становой, выпив водки и закусив, сообщил ей, что казни завтра еще не будет.
— Как? Отчего?
— Удивительная история. Палача не могли найти. Один был в Москве, и тот, рассказывал мне сын, начитался Евангелия и говорит: не могу убивать. Сам за убийство приговорен к каторжным работам, а теперь вдруг — не может по закону убивать. Ему говорили, что плетьми сечь будут. Секите, говорит, а я не могу.
Наталья Ивановна вдруг покраснела, вспотела даже от мыслей.
— А нельзя их простить теперь?
— Как же простить, когда приговорены судом. Один царь простить может.
— Да как же царь узнает?
— Имеют право просить о помиловании.
— Да ведь их за меня казнят, — сказала глупая Наталья Ивановна. — А я прощаю.
Становой засмеялся.
— Что ж, просите.
— Можно?
— Известно, можно.
— Да ведь теперь не успеешь?
— Можно телеграммой.
— К царю?
— Что ж, и к царю можно.
Известие о том, что палач отказался и готов пострадать скорее, чем убивать, вдруг перевернуло душу Натальи Ивановны, и то чувство сострадания и ужаса, которое просилось несколько раз наружу, прорвалось и захватило ее.
— Голубчик, Филипп Васильевич, напишите мне телеграмму. Я хочу просить у царя помилования.
Становой покачал головой.
— Как бы нам не влетело за это?
— Да ведь я в ответе. Я про вас не скажу.
«Эка добрая баба, — подумал становой, — хорошая баба. Кабы моя такая была, рай бы был, а не то, что теперь».
И становой написал телеграмму царю: «Его Императорскому Величеству Государю Императору. Верноподданная Вашего Императорского Величества, вдова убитого крестьянами коллежского асессора Петра Николаевича Свентицкого, припадая к священным стопам (это место телеграммы особенно понравилось составлявшему ее становому) Вашего Императорского Величества, умоляет Вас помиловать приговоренных к смертной казни крестьян таких-то, такой-то губернии, уезда, волости, деревни».
Телеграмма была послана самим становым, и на душе у Натальи Ивановны было радостно, хорошо. Ей казалось, что если она, вдова убитого, прощает и просит помиловать, то царь не может не помиловать.
XII
Лиза Еропкина жила в неперестающем восторженном состоянии. Чем дальше она шла по открывшемуся ей пути христианской жизни, тем увереннее она была, что это путь истинный, и тем радостнее ей становилось на душе.
У ней были теперь две ближайшие цели: первая обратить Махина, или, скорее, как она говорила это себе, вернуть к себе, к своей доброй, прекрасной натуре. Она любила его, и при свете своей любви ей открывалось божественное его души, общее всем людям, но она видела в этом общем всем людям начале жизни его ему одному свойственную доброту, нежность, высоту. Другая цель ее была в том, чтобы перестать быть богатой. Она захотела освободиться от имущества, для того чтобы испытать Махина, а потом для себя, для своей души — по слову Евангелия захотела сделать это. Сначала она начала раздавать, но ее остановил отец, и еще больше, чем отец, толпа нахлынувших личных и письменных просителей. Тогда она решила обратиться к старцу, известному своей святой жизнью, с тем чтобы он взял ее деньги и поступил с ними, как найдет нужным. Узнав это, отец рассердился и в горячем разговоре с ней назвал ее сумасшедшей, психопаткой и сказал, что он примет меры к тому, чтобы оградить ее, как сумасшедшую, от самой себя.
Сердитый, раздраженный тон отца передался ей, и она не успела опомниться, как злобно расплакалась и наговорила отцу грубостей, называя его деспотом и даже корыстолюбцем.
Она просила прощенье у отца, он сказал, что не сердится, но она видела, что он был оскорблен и в душе не простил ее. Махину она не хотела говорить про это. Сестра, ревновавшая ее к Махину, совсем отдалилась от нее. Ей не с кем было поделиться своим чувством, не перед кем покаяться.
«Богу надо покаяться», — сказала она себе и, так как был великий пост, решила говеть и на исповеди сказать все духовнику и попросить его совета о том, как ей поступать дальше.
Недалеко от города был монастырь, в котором жил старец, прославившийся своей жизнью, поучениями и предсказаниями и исцелениями, которые приписывали ему.
Старец получил письмо от старого Еропкина, предупреждающее его о приезде дочери и об ее ненормальном, возбужденном состоянии и выражающее уверенность в том, что старец наставит ее на путь истинный — золотой середины, доброй христианской жизни, без нарушения существующих условий.
Усталый от приема, старец принял Лизу и стал спокойно внушать ей умеренность, покорность существующим условиям, родителям. Лиза молчала, краснела и потела, но когда он кончил, она с слезами, стоящими в глазах, начала говорить, сначала робко, о том, что Христос сказал: «Оставь отца и мать и иди за мной», потом, все больше и больше одушевляясь, высказала все то свое представление о том, как она понимала христианство. Старец сначала чуть улыбался и возражал обычными поучениями, но потом замолчал и стал вздыхать, только повторяя: «О господи».
— Ну, хорошо, приходи завтра исповедоваться, — сказал он и сморщенной рукой благословил ее.
На другой день он исповедовал ее и, не продолжая вчерашний разговор, отпустил ее, коротко отказавшись взять на себя распоряжение ее имуществом.
Чистота, полная преданность воле бога и горячность этой девушки поразили старца. Он давно уже хотел отречься от мира, но монастырь требовал от него его деятельности. Эта деятельность давала средства монастырю. И он соглашался, хотя смутно чувствовал всю неправду своего положения. Его делали святым, чудотворцем, а он был слабый, увлеченный успехом человек. И открывшаяся ему душа этой девушки открыла ему и его душу. И он увидал, как он был далек от того, чем хотел быть и к чему влекло его сердце.