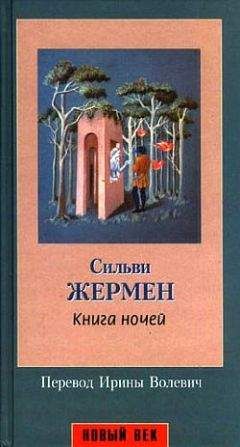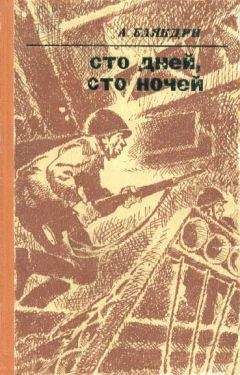Николай Зарудин - Тридцать ночей на винограднике
И она встала, потянулась, погладив бока нежными руками, наглухо застегнутыми в узкие мягкие рукавчики. Я напряженно смотрел в окно. Унылые водяные тучи со снежными пятнами летели над деревьями, и листва ходила под нордом, закипая волнами глухого шелеста. Караульщица, не сводя глаз с молодой насмешливой женщины, расстегнула свой неуклюжий сак, ленивым движением повела плечами и, словно наедине перед зеркалом, открыла
гладкую выпуклую шею с низким вырезом белого ситцевого платья в черных горошинах. Проворный клетчатый кусок ткани соскользнул на ее колени комком шелкового стекла. Это было прекрасное заграничное кашне, выбранное с большим вкусом. Светлана Алексеевна с изумлением смотрела на эту странную девушку: откуда у ней могла появиться такая изящная и дорогая вещь? И она обращается с ней, как с последней тряпкой...
Под бедным саком ее задорное, насмешливое тело раскрывалось, как запах кувшинки, в глазах ее плавали отсветы дремучей тины. Эти глаза попрежнему смотрели вокруг с неподвижной откровенностью.
Тучи, развеянные ветром, уже прорывались голубыми пропастями. Я болтал всякий вздор. Караульщица развязала бабий вымокший узелок, - там оказались дешевые папиросы и пачки махорочного табаку. Она уже собиралась уходить, замотала вокруг шеи свое кашне и стояла, помахивая красным платком.
Я видел, что на ней не было ничего кроме базарного платья и черного полупальто, блестевшего заношенными металлическими пятнами. И с полусапожек ее на линолеум пола натекали грязные, размешанные с глиной лужи.
- Что же вы будете делать, Аня? - сказал я ей. - Ведь арбузы скоро кончатся. Где вы будете работать?
- Чего кончатся? - наивно переспросила она. - Вот еще! В Москву поеду на фабрику.
- Вы не замужем? - спросила Светлана Алексеевна, искоса поглядывая на ее голые, необыкновенно гладкие ноги. - У вас есть семья, отец, мать?
- Как бы не так! - вызывающе засмеялась караульщица. - Я и сама прокормлюсь, я не беленькая. Мужья-то таких не берегут, кто по шалашам валяется. А мне и не надо!
Она помолчала и совсем уже дерзко добавила:
- Чего мне муж! Кого хочу, того и люблю. Пускай теперь сами наищутся!
Она оглядела еще раз комнату, улыбнулась мне и подошла к окну.
- Чего затворились? - спросила она. - Али замерзли? А мне хорошо, у меня окошек нету... Ну, до свиданьица! Гостинец то ему передайте, - добавила она, протягивая мне руку. - Скажите, мол, приходила... Он знает... А вы, барышня, коли он вам брат, чего не подумайте. Мы ведь - не как московские.
Светлана Алексеевна ничего не сказала, беззаботно кивнув головой. Караульщица вышла, высокая и прямая, сложив руки - рукав в рукав. Через окно я видел ее еще раз: она шла, быстро и ловко ступая по гравию, и среди мертвой зыби ветра, дождевых последних капель, вспыхивающих блестками рыбьей чешуи в косых столбах солнца, она вся, с блуждающими губами, казалась улыбкой ожившей буддийской статуи.
Сестра художника слишком оживленно болтала со мной в этот день. Мы встретились все вместе в столовой, и никогда я не видел Овидия с девушкой такими беспечными и веселыми. Мы курили табак и ели ломти холодной дыни, похваливая долину Дюрсо. Посещение караульщицы прошло почти незаметно, я не сказал ни одного слова, а Светлана Алексеевна встретилась с Овидием раньше нас. Очевидно, и она не приняла этого визита всерьез. Но все же я видел, что она отказалась от дыни. Она не притронулась к ней и попросила Овидия разделаться с куском прекрасного плода, давшего Живописцу хороший повод для разговора о Гогене. Он ругал всю современную живопись и объявил, что собирается ехать к шаманам. Дикари ближе к искусству, чем век индустриализации. Поджигатель не спорил с ним в этот день и добродушно поблескивал очками, а практиканты слушали художника с почтительным вниманием. Портрет Придачина сделал свое дело, авторитет Живописца прочно утвердился в совхозе "Абрау-Дюрсо".
У кооператива мы встретили Наташу Ведель: в ее руках был уже новый роман. Мы разговаривали, а Живописец кашлял в стороне ровно три минуты, пока две девушки, дружно поцеловавшись, болтали на непонятном женском языке.
- Могила! - отплевывался Живописец, покачиваясь. - Не сыграть бы к профессору Арнозану... Ках, ках! - докашливал он последние секунды. Шаманы - серьезные мужики. Мы поедем
к ним вместе с Бекельманом. Пускай это называют биологизмом.
- Слышите, слышите! - смеялась его сестра. - Он собирается к шаманам, а сам не может без меня сделать и шагу. Имей в виду, что я не собираюсь к дикарям. А шамана я заведу раньше тебя.
Она хохотала и поглядывала на Овидия, стоявшего в своем непромокаемом макинтоше с невозмутимым видом. И Наташа Ведель пригласила девушку на "Виллу роз". Она взяла с нее честное слово и добавила, что не отпустит ее до следующего утра.
Мы вернулись домой, когда ветер совсем разогнал дождь, отдельные помолодевшие тучи озирались в теплой синеве предвечернего воздуха. Косые лучи шарили в мокрой листве, отряхивающей дождевые россыпи, на горах ветер кружил лиловые и красные тени, усталые тени лесов. Норд-ост усиливался. Приближались осенние штормы.
Но я слышал, как Овидий, прощаясь с девушкой, сказал, что он снова идет к китайцу Жан-Суа караулить последние участки пино-франа на Магеллатовой Короне.
И, к счастью, беззаботная девушка не придала его словам никакого значения.
37
Я сделал все, чтобы Овидий не ушел в этот вечер. Наступала тридцатая ночь нашей коммуны, тридцатая ночь поколения. Еще раз мы лежали на кроватях все вместе и пускали папиросный дым. Овидий братски разделил полученный подарок. Но все мои уговоры не привели ни к чему. Он вытащил свои чемоданы, выбрал лучшую сорочку, повязал изысканный синий галстук и надел серый пиджачный костюм. Очевидно, Жан-Суа устраивает виноградный бал. И Поджигатель, как всегда, заботливо оглядел вероломного друга и посоветовал ему надеть калоши: он сам в дождливые дни морщился от распухающих суставов. Овидий крепко пожал мою руку, я вышел проводить его на крыльцо.
Ветер раздувал желтое вечернее пламя.
- Я вас очень прошу, - сказал я еще раз Лирику, - оставайтесь сегодня с нами... Я уезжаю на-днях. Хотелось бы поговорить... Кроме того, посмотрите, какая погода.
- Пустяки! - засмеялся он в ответ. - Я вас очень люблю, но думаю, что вы никуда не уедете - во-первых. Во-вторых - мне нужно видеть Жан-Суа. Мы караулим сегодня в последний раз.
- Как хотите, но я все-таки вас очень прошу...
- Нет, нет!
Он схватил меня за плечи, обнял. От его свеже-выбритых щек пахло одеколоном.
- До свиданья! - сказал он. - Помните, как у Тютчева:
Так здесь-то суждено нам было
Сказать последнее прости,
Прости всему, чем сердце жило,
Что, жизнь убив, ее испепелило
В твоей измученной груди!
Он читал свободно и звучно, вдыхая стихи, как воздух, глаза его блестели.
- Вот стихи! - восклицал он. - Это поэт! А дальше, дальше...
Прости... Чрез много, много лет
Ты будешь помнить с содроганьем
Сей край, сей брег с его полуденным сияньем,
Где вечный блеск и ранний цвет...
Он схватился за голову, быстро сбежал с лестницы.
- До свиданья! - кричал он на ходу. - Все это ерунда, а вот у меня опять зарезали книгу...
Он крикнул что-то еще и возбужденно легко побежал по дорожке. Ветер трепал его пушистую голову, ровно подстриженную кружком над гордой юношеской шеей.
Когда я вернулся в комнату, Поджигатель добродушно беседовал с Винсеком и советовал ему поступить на технические курсы. Секретарь угрюмо молчал и глядел исподлобья. Завтра в двенадцать часов он уезжает и прощается с нами быть может,
навсегда. Я собрал бумаги и книги, надел старую охотничью куртку.
- Вы что, уходите? - спросил меня Поджигатель. - Я было хотел поговорить с вами по душам...
Он смотрел, ласково улыбаясь, совсем как в старое время. Его клетчатые портянки лежали в неприкосновенности на полу. Маленькое тщедушное тело, завернутое по пояс в суконное одеяло, выглядело трогательным.
- Я хотел было отправиться к морю... Но я с удовольствием останусь.
Мне, собственно, давно хотелось рассказать ему кое-какие вещи.
- Нет, нет! - сказал он приветливо. - Идите. Это мы еще успеем. Я просто прихворнул и немного раскис. А сейчас мы побеседуем с товарищем...
Он решительно просил меня посмотреть шторм на море.
Давно стоял свежий росистый вечер. Тучи снова наползали на горы. На клумбах у старого цементного фонтана, разбитые и ошеломленные водой, шевелились, поднимая стебли, заглохшие летние цветы. Табак уже отцвел. Под сырой зеленой скамейкой светлой тенью белела сухая полоса песку. Уже не осталось совсем летних дождевых запахов. Я сидел под нашим окном, смутные звуки голоса Поджигателя доносило сверху. Дым папиросы мешался с ветром, шипели деревья, сквозь листву мерцала серая рябь тусклой озерной воды. Дом словно вымер. За окнами, закрытыми наглухо, тьма чернела водяными потемками, лишь одно окно нашей коммуны звучало распахнутой жизнью... Я как будто ослышался. Шипели деревья, возникали и смолкали голоса, в налетающих порывах упругого беспокойного шума мне почудились глухие рыдающие всхлипыванья... Не может быть! Ветер расплескивал шум, звуки набегали и откатывались движеньем прибоя, на их гребешках отчетливо нырял и покачивался голос Поджигателя. Кто-то глухо рыдал - так, как рыдают мужчины, с редким, почти собачьим лаем, не отирая слез и не закрывая лица...