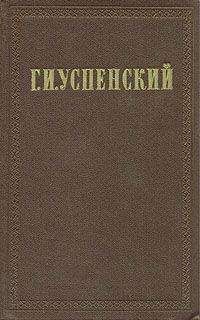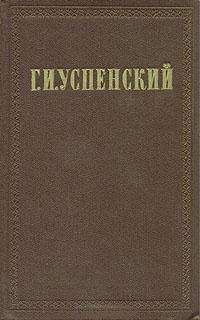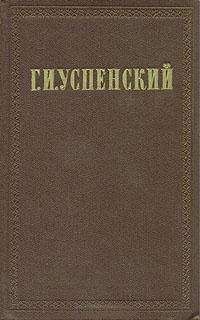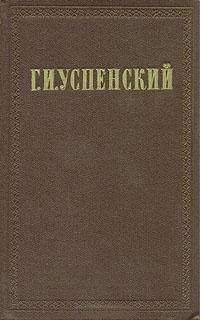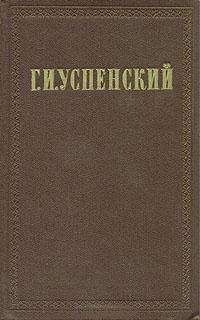Глеб Успенский - Разоренье
Из города, где жила его жена, его выжили, и он шатался кое-где, то задумывая работать, то идти в монахи. Последнее намерение брало верх, ибо нервное расстройство от множества белых горячек достигло высшей степени. По его рассказам, бесы познакомились с ним лет двенадцать тому назад; сначала был "приставлен" к нему один, который начал с того, что уговорил Ивана отхватить ножом собственный палец. Иван это исполнил, и с тех пор за ним ежеминутно шатаются двое и делают с ним, что хотят; так — они примутся его "сбивать с ноги". Кричат: "держи левую ногу! эй, левую ногу держи!" Иван держит и попадает в яму со всякою нечистью. Они водят его целые ночи по разным вертепам, показывая пьяниц, которые лежат в темном подвале, как дрова, заплесневелые и зеленые, и от них несет холодом, от которого у Ивана захватывает дух… Приводят его к морю гущи, из которой торчат головы и вопиют: "Ваня! вот "которое" нам будет за трубочки с табаком да за водочки!" Во время таких путешествий поминутно попадаются собаки с человеческими лицами, которые его спрашивают: "где твой ангел?" и начинают ругать, а жену хвалить. Стоит ему заглянуть в какой-нибудь угол, — и там тотчас же вырастают носы по пяти сажен длины и тоже ругают. Однажды Иван валялся пьяный около корыта, где мок в овсянке овчинный рукав; этот рукав целую ночь ругал его: "камбала!", очевидно, намекая на его кривой глаз. Несколько раз неизвестные люди хотели его украсть, а на место его положить "пса", которого прятали под полой и на голову которого надевали Иванову шапку "для сходства". В ужасе от таких сцен он обращался к богу, бросался в церковь и начинал бить поклоны; но угодники отмахивались от него руками, говоря: "не нужно! не надо! вон пошел!" Лик божией матери чернел и уходил вглубь, а глаза белели. Иван распростирался на земле; но из полу прямо в рот ему лезли трубочки с табаком, и какие-то люди жгли ему пятки, говоря: "поддай ему жару! он мать проклял родную!" Бывали минуты глубочайшего отчаяния; но выручали те же расстроенные нервы: в самом страшном приливе тоски ему вдруг являлось в небе видение — крест и евангелие, или под ногами распростиралось небо со звездами, и Иван восклицал: "Матушка, царица небесная! Никогда я тебя не забуду! Стало быть, поживем еще маленечко!" И начинал ту же историю вновь.
К нам Иван поступил в припадке величайшего уныния и, боясь быть выгнанным, покуда не пил, не переставая, однако же, слышать голоса, проклинавшие его и выходившие откуда-нибудь из графина или с потолка. Иногда неожиданно он совал в щель между половицами папиросу, так как солнечный луч, ударявший в пол, представлялся ему в виде головы, которая говорила: "нет ли покурить?" Ночью галлюцинации увеличивались до последней степени; стоило погасить свечу, стоило Ивану остаться в темноте, задремать, как тотчас же начинались таинственные явления.
— Прочь! — кричит Иван в темной комнате. — Убью, как собаку! Пес эдакой!
Иван вскакивает и бросается куда-то.
— Иван, Иван! — кричу я. — Куда ты?
Окрик останавливает его.
— Ах ты, господи, боже мой, — кричит он, опускаясь на пол. — А-а-а! Замучили они меня, черти проклятые! Смерть моя! Сейчас хотел бежать за топором, убить его… Как же, помилуйте, которую ночь пристает: "Ты душу мне продал. Пойдем!" Ах ты, шельма, сволочь!..
Иван тяжело дышит и долго сидит в большом волнении.
— Действительно, — говорит он, как бы что-то соображая, — однова был торг, торговались. Ну, тогда обман вышел, это я верно знаю, потому что я ему тогда согласия не дал! Верно! Я ему говорю: "Поди к купцу Брускову… (на площади дом-с)… выноси деньги… пятьдесят серебром..." А он в ту пору уперся: "Обругай, говорит, нечистыми словами храмы божий, тогда вынесу!" Ну, а я ему наплевал на это, потому храмов божиих мне ругать неохота. Это я верно — вот как — знаю!.. Еще свою шапку тогда продал, а от него не брал ни гроша медного… Каков есть грош… Ах ты, собака поганая! Что тут делать? "Продал" — да и шабаш!
— Ты к доктору, Иван, сходи…
— Были-с, ну, пожалуй, что тут докторам-то не ухватить! — шепчет и хрипит Иван со вздохом и, помолчав, прибавляет еще более глубоким шопотом — тут дело-то помудреней будет-с! Сказать по совести, а ведь я, ваше благородие, шесть недель креста на шее не имел, утерял, вот в чем-с! Так тут доктора не могут-с… Уж ежели шесть недель без креста я прошатался, то уж, сами знаете, все одно — татарин, собачье мясо, некрещеный! Тут не доктор-с, тут к митрополиту надо писать, чтоб по крайности хошь перемазали бы…
Иван долго рассуждал на эту тему и, уходя, говорит предупредительно:
— Вы, ваше благородие, замыкайте дверь… Неравно что со мной… Шут его знает!
Иногда я запираю дверь; но шум и крик Ивана вместе с ветром, который звонит и хлещет, не дают мне покою.
11"С появлением Ивана разговоры у печки сделались гораздо продолжительнее, так как к тоскливым жалобам хромоногого солдата на свою семейную каторгу присоединились жалобы Ивана. И хотя несчастия последнего несколько разнились от несчастий солдата, но они сделались дружными собеседниками, благодаря тому, что Иван, подобно солдату, тоже хотел собраться да "шепнуть государю императору словечка два", и еще благодаря тому, что Ивану, познакомившемуся с делами хромого, была полная возможность излить свою ненависть на собственную жену, которую он ненавидел.
— Я, брат, знаю их, каковы они, жены-то наши! — хрипел Иван, сидя на полу у печки против солдата. — Они ловки нашего брата в землю по самую по шею забивать! Ты у меня спроси-и: что я был и что стал?
— Да уж что!
— Да-а! Знаешь Константинова, Петра?
— Ну?
— Ну первый маляр по губернии? Пять домов?
— Ну?
— Ну я его по щекам бил!
Сказав это, Иван торжественно замолкает, сверкая на нас глазами.
— Я своими ручками бил его по морде! Ученик он мой был, видишь вот! Поди спроси у него: сколько, мол, раз Иван Лазарев вам голову прошибал? Поди! — что он тебе скажет? А теперь я сам у него копеечки напрошусь! Он — миллионщик, а я… Вот они бабы-то!
Солдат вздыхает.
— У меня тридцать человек рабочих пикнуть не смели! У меня… ах! Ах, бож-же мой! — вдруг обрывая гневную речь, как бы от сильной боли хватаясь за ухо, стонет Иван. — А-ах, как завы-ыл!..
— Кто? кто такой?
— Да кто же?.. Пошел из-за спины, завы-ыл, завыл так, альни под сердце подвернуло! Ах, боже милостивый!
— Да это ветер! что ты? — успокоивал солдат.
— Знаем мы его, какой он ветер! Учены очень! — говорит Иван, мало-помалу освобождаясь от видения. — Они, жены-то, довольно хорошо нас этому обучили, слава богу! Прраклятые!
Несмотря на добродушие солдата, несмотря на его полное понимание невозможности поправить что-нибудь в своем положении, открытая вражда Ивана к жене, подкрепляемая аргументами, подобными вышеприведенным, действовала на солдата весьма странным образом.
— Да что ж, ей-богу, — стал поговаривать он, — терпишь, терпишь… Сегодня вот опять вломился: "посылай!"
— Ермолка, что ль? — спрашивал Иван.
— Стало, он!
— По шее его! Больше ничего, одно! Дуй, как собаку!.. — советовал Иван гневно.
— Да что же в самом деле? Мне тоже требуется свой покой, право, ей-богу! "Ты, Ермолай, хушь бы подумал, говорю, ведь и ты тоже, чай, будешь на суде-то?.." — "Посылай!.." — только и слов… И жена: "Пошли, Филиппушка, нам, пропащиим!" Уж я посылал, посылал…
— Ловки они нашего брата разорять, собаки… Огреть хорошенько — да и сказ!
— Да что в самом деле! — как-то неопределенно произносил солдат, обращаясь ко мне и не то жалуясь, не то соглашаясь.
В таких разговорах мы проводили время, ожидая, не получшает ли нам всем, не перестанет ли непогода, не начнутся ли выборы. Ни того, ни другого, ни третьего покуда не случилось; только история господского сюртука, изображаемая хромым солдатом, выяснялась все более и более, делаясь от этого необыкновенно мучительной. Однажды, в бессонную ночь, поднявшись к окну за табаком, я случайно увидел Ермолая, который прошел под моим окном по грязи, без шапки, с растрепанными по ветру волосами и распоясанной рубахой. Он шел медленно и считал на ладони медные деньги… Вслед за ним проплелась, завернувшись с головой в рваную свиту, сгорбленная и, судя по походке, крайне изможденная жена солдата; она плелась босиком, хромая на одну ногу, обвязанную грязной тряпкой, и, повидимому, шла, куда глаза глядят. После этой сцены мне было весьма, тяжело слушать негодующие вопросы солдата вроде: "Да что ж в самом деле?", как бы грозившие чем-то этой, замученной женщине. Но благодаря простодушию и доброте солдата, низводившим этот вопрос только до степени глубокого вздоха, никто из нас троих не предполагал, что из этого что-нибудь выйдет.
А между тем это "что-нибудь" вышло, и подзадоривания Иваном солдата разрешились совершенно неожиданно.
-
Однажды, занимаясь в школе, я слышал, как хромой солдат вошел в мою комнату, толковал довольно громко о чем-то с Иваном и потом ушел куда-то вместе с ним: в последнее время солдат охотно водил Ивана в кабачок выпить рюмочку, и возвращались они скоро, боясь рассердить барыню; но в этот раз пропали на целый день.