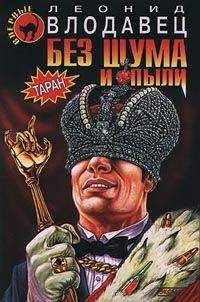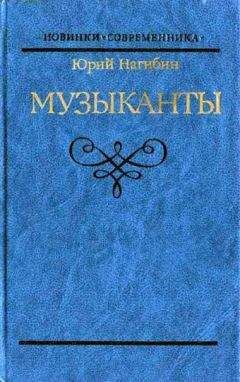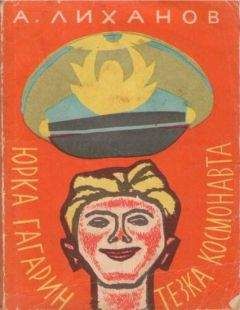Александр Эртель - Карьера Струкова
Он встал, прошелся по комнате, отхлебнул из стакана и продолжал:
— Расскажу о главном. Была девушка… Называть ее не будем. Довольно вам знать, что случилось это в тридевятом государстве… как в сказке… Или, и назову… тоже по-сказочному — принцессой Милли. Скажите пожалуйста, любили ли вы по-настоящему? О нет, не так, не семейной любовью, не любовью мужа к жене, — в этом-то я не сомневаюсь, — а до экстаза, до превращения женщины в божество, с верою в ее нездешнюю силу, с мистическим очарованием от ее внутренней красоты и вместе от улыбки, от взгляда, от звука голоса, от простого движения руки?.. И если любили, отвечали ли и вам любовью? Снисходило ли к вам ваше божество? Чувствовали ли вы сладкий огонь ее поцелуев, тихий, счастливый смех, ласковую правдивость взгляда? — Он мельком взглянул на Струкова и невесело засмеялся. — Вы удивляетесь, что я выражаюсь так высокопарно? Ничего, это бывает. Больные, особенно с повышенной температурой, тоже так выражаются. Я лечил одного чахоточного… язвительный был малый, бурсак, элоквенцию терпеть не мог, и знаете, что заговорил однажды, незадолго до смерти. «О, сколь милы мне эти клейкие листочки на березе, и шум весны, и соловьиная песня…» Да каким чувствительным голосом! А Тургенева, бывало, читать не соглашался: приторный, говорит, у него язык…
— Продолжайте, — прошептал Алексей Васильевич.
— Ну, вот-с… Я и сейчас так люблю, а она… Вообразите вы волшебный недоступный замок какой-нибудь. Огромной толщины стены, бойницы, решетки… и далеко, далеко. Проще сказать, нет в мире такой силы, чтобы войти туда, взглянуть, пожать руку… И она там. Навсегда там, поймите это. И нет прежней, гордой и сильной принцессы Милли, — есть униженное, измученное, больное существо… У этого существа день и ночь бьется разбитое сердце, день и ночь тоскует в смертной истоме оскорбленная всеми оскорблениями душа… А тело!.. Ах, какое маленькое, худенькое, надорванное лишениями тело… и огромные, зовущие глаза… — Доктор низко наклонил голову… Струкову послышалось заглушённое рыдание, — он и сам едва удерживался, хотя многое не понимал в этой сказке.
— Зовет! — с необыкновенным выражением воскликнул Бучнев. — Голос, голос этот, ни с чем не сравнимый, я слышу, я не забуду его… — И неожиданно закончил после нескольких минут молчания: — А впрочем, давайте выпьем.
Потом еще долго говорил и много пил вина. Но не пьянел, только лицо его становилось все бледнее и печальнее да на тонких губах беспрестанно бродила жалкая, беспомощная улыбка. Утром же встал как ни в чем не бывало, — в окно с поднятой гардиной, предвещая такой же, как и вчера, ветреный день, кровавым заревом светила заря, — и сказал:
— Ну, и довольно. И я пойду… Спите себе. И — «ни слова, о друг мой, ни звука»: Наталье Петровне никакой нет надобности знать о нашей с вами сшибке… Да и никому.
Затем остановился в дверях и, надвигая свой колпачок, прибавил:
— А знаете, ваша жена ужасно напоминает ту… принцессу Милли… Любите ее, берегите, а разные там подозрительные чувства… понимаете? оставьте это. И притом, ими не удержишь, — таких, как она, только и удержишь… знаете чем? Подвигом, Струков. Это именно для них написано, — и он пропел фальшивым голосом:
Бу-у-дет буря!..
Мы поспорим
И помужествуем с ней!..
Мужества-то и недоставало Алексею Васильевичу. Недостало даже на то, на что он было решился одно мгновенье: остановить Бучнева, показать ему исписанный кругом листочек — свою исповедь, свою нехорошую тайну. Он только глубоко вздохнул, когда фигура доктора, отчетливо и одиноко вырисовываясь на зловещем багровом небе, скрылась наконец в степной дали, и, возвратившись в кабинет, сжег листочек. Потом, не раздеваясь, повалился на постель; вспомнил еще раз, что произошло в эту ночь, содрогнулся от внезапно пробежавшего озноба и вдруг заснул тяжелым, беспробудным, похожим на обморок сном.
— Барин!.. Барин!.. Алексей Василич… Алексей Василич!.. Проснитесь, пожалуйста… Огромная неприятность!
Струков с трудом расклеил глаза, увидел над собой помертвелое лицо прачки Василисы и встревоженного практиканта и вскочил в ужасе.
— Что такое? Что такое? — забормотал он. — Что-нибудь с доктором случилось?.. Где?.. Когда?..
— С каким там доктором, — с недоумением произнес практикант, — солдат Максим жену убил.
Алексей Васильевич как подкошенный упал на стул.
— У-би-и-л, злодей, у-би-ил, — заголосила Василиса, — топором порешил, голубушку… Чуть дышит.
При последних словах Струков сорвался с места.
— Чуть дышит? Жива? — заторопился он, озираясь растерянными глазами, — пожалуйста… кто там… лошадей… за доктором…
— Уже послано, — ответил практикант, — и в Апраксино, и в Излегощи за урядником. Но что делать с Максимом? Он в кухне… Пойдите к нему.
— Да?.. Ну что ж, я пойду… Что же, ничего… Пожалуйста, скорее доктора. И первая помощь… вино… носилки…
— Гертруда Афанасьевна с Олимпием давно уже там… И народ побежал.
— А, вот и отлично… и отлично…
Солдат Максим сидел на лавке, растопырив руки на коленях, и сосал давно уже потухшую трубку. При появлении Струкова он, как и всегда перед начальством, проворно спрятал трубку и вытянулся.
— А, здравствуй, Максим!.. Ну, что ты? Как ты там? — выговорил Алексей Васильевич, скользнув испуганными глазами по заросшему волосами изуродованному оспой лицу.
— Больше ничего, как прикажите падало прибрать, — отчетливо произнес солдат.
Раздались негодующие восклицания женщин, столпившихся за спиною Струкова… Алексей Васильевич ничего не понял.
— То есть как… падало? — спросил он.
— Апроськино тело, вашевскародие, — с прежней отчетливостью пояснил Максим.
— Но за что же? За что, несчастный ты человек? — вырвалось у Струкова болезненным стоном.
— Потому, нет моего согласья ейную распутную душонку покрывать. Я присягу примал.
«Злодей ты окаянный!.. Кровь пролил, да еще кочевряжится, рябой черт!.. Расстрелять тебя мало, подлая твоя душа!» — послышалось из толпы.
Ни один мускул не дрогнул на лице Максима. До прихода Алексея Васильевича он отрывочно, но подробно рассказал, как все произошло; теперь, перед барином, из особого чувства почтительности, он не хотел распространяться и возражать обозленной дворне. По-солдатски устремив на Струкова глаза, он стоял безмолвно, протянув руки по швам. И лишь в самой глубине этих бессмысленных выпученных глаз трепетало что-то страшное и роковое.
— Да что тут с ним толковать, — злобно крикнул кучер Илья, — прикрутить ему руку к лопаткам и в стан… Костюшка, неси вожжи.
— Да, да, конечно… Нет, зачем же вязать, — не сознавая, что говорит, произнес Струков и вдруг, вспомнив, что Фрося еще жива, с отчаянием воскликнул: — Кто же с ней?.. Спешите туда… Дайте поскорей лошадь… — и торопливо вышел из кухни.
Все, кроме Ильи и конюха Костюшки, бросились за ним, а прачка Василиса мелкой рысцою побежала с ним рядом и, всхлипывая и легонько причитая, стала шептать, что «злодей нашел четвертную бумажку» в женином сундуке, что «она, горюша, напрямки ему, ироду, отбрила: мил, сердешный друг подарил, и тут-то он ее, окаянный, и полыснул топором»… Струков едва вслушивался в прачкины слова и решительно не понимал их значения. Только несколько дней спустя он вспомнил о них, и каким потрясающим укором они легли на его совесть. Фрося была еще жива, когда на пасеку примчались на случайно запряженной водовозке Олимпий и экономка и сбежался народ, но эту жизнь только и можно было приметить по едва слышному биению сердца. Несчастная не приходила в сознание. Дело случилось, вероятно, так. Фрося куда-то уходила, и в ее отсутствие Максим взломал топором замкнутый сундучок, нашел там таинственные деньги и, о чем не сказал на хуторе, выбросил и изрубил женины наряды. В это время она возвратилась, и между ними началась обычная сцена. Для урядника, явившегося производить дознание, представлялось загадочным, отчего она не стала, «по-бабьему обнаковению», вывертываться, не объяснила присутствие денег в сундуке какими-нибудь лживыми, но правдоподобными обстоятельствами, а прямо отрезала: подарил-де «мил-сердешен друг»? Однако женщины хором возразили на это, что у бабы только и есть за душой что наряды, а так как Фросе прежде всего бросилось в глаза изрубленное добро, то она, не помня себя, лишь бы досадить постылому мужу, и крикнула ему «в самые бельмы» о деньгах. Тогда он наотмашь ударил ее обухом.
— Но в таком разе сумлительно, как так супруг не допытывал, кто есть любовник, — строго сказал урядник, — тем паче, вы говорите, завсегда имел такое обнаковение — бить и антиресоваться, с кем вожжалась?
— Да никогда и не было любовника, господь с вами! — наперебой ответили женщины. — Четвертной билет она всячески могла сколотить… мало ли чем! А что будто бы гуляла — просто со зла взвела на себя, из-за нарядов. До кого ни доведись — сердце возьмет.