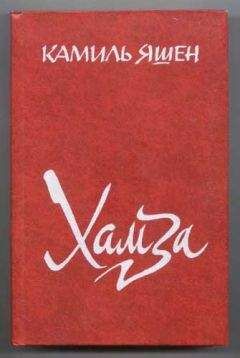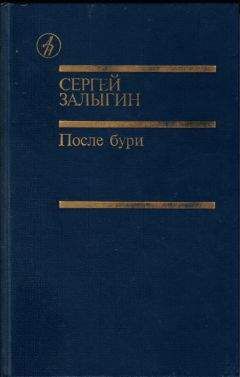Петр Краснов - Ложь
Кругом Лизы молодой смех, крики, веселый говор, свободное, непринужденное обращение: едут домой, к, себе, на Родину!.. На Лизу повеяло простором и обширностью Америки. Через нее кричали на другую сторону стола:
– О, мне еще четыре дня по железной дороге…
– Вы разве из Фриско?..
– Качайте дальше.
– Я на ферму автомобилем поеду: суток пять пути… Совсем на юге…
– Вы из Чикаго?..
– Почему вы узнали?..
– По говору вашему.
Лакеи, ловко балансируя по колеблющейся палубе, бесшумно разносили блюда. Восемь перемен было, и все для Лизы такое соблазнительное и вкусное, но Лиза только отмахивалась. Снизу от желудка поднималась какая-то муть, тяжелой становилась голова и Лиза думала только о том, чтобы досидеть до конца обеда, не подав вида, что ей дурно.
* * *
Океан покорил Лизу.
Утро… Ни тумана, ни туч… Все сияет и горит кругом в солнечном блеске. Фиолетовые волны идут, в стройном порядке, спокойные, ровные, невысокие. Редко– редко, тут, там вспыхнет на них белый гребень, и побежит, сверкая, вдоль волны, с тихим шипением догоняя пароход.
Наталья Петровна и Татуша лежат на палубе в соломенных креслах. У них бледные лица и утомленный, томный вид. Они отходят от морской болезни.
Зима, а как тепло!.. Лиза стоит у борта. Она слушает песню океана. И кажется ей, что начинает она улавливать его мелодию и постигает в гимне Океана Того Неведомого, Кого отрицали ее учителя и о Ком говорил ей отец. Разве можно было бы быть без Его помощи здесь, затерянной в бесконечном просторе морского пути?..
Четверо суток бежит пароход, и будет бежать еще шесть суток, и все будет то же море, та же вода, та же игра красок, та же беспредельность и то же одиночество… Станет жутко…
Нет возврата…
В этот день все встали раньше обыкновенного. Шесть часов утра, а уже пассажиры на ногах, толпятся на верхней палубе.
Все было, или казалось Лизе, необыкновенным. Перед нею – бледно-розовое небо. Туманная сизая дымка, как налет на розовой сливе прикрывает показавшуюся на горизонте землю. В этом тумане начали выявляться, обрисовываться, сначала неясными, неопределенными очертаниями, потом все яснее и яснее, прозрачными розовато-синими силуэтами дома-небоскребы Манхаттана. Нью-Йорк показался вдали.
Узкие башни были словно тонкие иглы. На одной, на самом верху, что-то блистает нестерпимым блеском на солнце. Другие башни более широкие, то с плоскими крышами, то с куполами.
Дома… дома… Блистание бесчисленных окон, громада города, и от него наплывал, постепенно нарастая, шум – песня Нью-Йорка…
Она напомнила Лизе симфонию Амфитеатрова: «Америка».
Все было красиво и необычайно, волнующе, все было совсем особенное, смелое по размаху, дерзновенное, ничем не сменяющееся, гордое – Американское…
Новый Свет!..
Февралевы подошли к Лизе.
Их движения медленны и ленивы. Они еще не совсем проснулись. Им все это кажется видением.
– Вавилон какой-то, – сонным голосом, в нос, говорит Натальи Петровна.
– Стиль другой, мама, – отвечает Татуша. – Я видела Вавилон на картинках. Там камень черный и дома замысловатее… Тут точно коробки.
– И как им не страшно жить. Вавилонские башни, вот-вот попадают…
– А как красиво, – тихо говорить Лиза. – Точно видение. Будто снится все это…
– Красиво… Не нахожу. Мне страшно. Что, если повалятся все эти башни-то, – говорит, зевая, Наталья Петровна.
Машина на пароходе перестала работать. Бесшумно несся пароход, и казалось, что он стоит на месте, а берег надвигается на него. Глухо и уныло как тогда, при отплытии, загудел, сотрясая воздух, гудок:
– У-у-ууух!.. У-у-ууух!..
Обдало горячим паром, пахнуло машиной.
Тяжелая тоска налегла на душу Лизы. Так много напомнил ей этот гудок!
Слышнее стала музыка города. Длинно и протяжно, точно зовя в неведомую даль, выла заводская сирена, стали слышны гудки автомобилей, бег колес, грохот кидаемых тяжестей, лязг железа, быть может, говор неумолкаемый, говор еще невидимой миллионной толпы. Какие-то колокола звонили.
Из-за статуи Свободы быстро неслась навстречу пароходу моторная лодка. Белый след длинным шлейфом змеился за нею по заголубевшей воде. В лодке стояли люди. Они кричали что-то на пароход, и им с мостика отвечали:
– Ау… ав… ав… – слышалось в свежем, утреннем воздухе. Точно собачьим лаем, встречала Лизу новая жизнь.
– Ау… ав… ав… ав… Непонятная, чужая, смелая жизнь… Лодка описала дугу, и понеслась обратно.
Пароход входил в широкую, как морской пролив, реку.
Ее берег, как острыми зубьями громадной пилы, был изрезан бесчисленными молами пристаней, деревянными эстакадами с сараями, пакгаузами, унылыми, не жилыми постройками таможен и складов. Кое-где над ними, на свежем ветру, трепетали на флагштоках и мачтах американские флаги, с синими покрытыми звездами, квадратами в углах.
Пароходы-гиганты стояли вдоль пристаней. Черные громады их, с белыми и красными обводами, с огромными овальными трубами с желто-розовыми верхами, с белыми каютами, со шлюпками по бокам, были, как целые города.
«Беренгария», «Бремен», – читала Лиза. – «А вон и “Queen Mary”, “Normandie”[66]».
Все знаменитости Атлантического океана стояли здесь.
Пестрые флаги играли, трепетали на кормах и на мачтах: немецкие, французские, итальянские, английские, шведские, аргентинские, парагвайские, какие угодно; не было только русского флага…
Права была Лиза в своем жестоком приговоре: России не было. Не было у Лизы Отечества.
Но, когда бесшумно проносился пароход мимо «Бремена», и увидала Лиза черную свастику на белом фоне на алом полотнище флага, – знак вечного движения, непрерывного прогресса, ощутила, как теплая волна залила ее сердце… Родина!..
Разнообразные запахи шли от города. Пахло каменноугольным дымом, горелой нефтью, смолой, вдруг пахнуло пряным ароматом ванили, апельсинами, смоляными канатами, терпким запахом пустых винных бочек, пригорелым маслом, грязной мыльной водой, тошным запахом городских стоков, помоями и сразу нежным запахом мимозы. Золотые кисти цветов привезенных с юга свисали с корзин на барже.
Матросы задраивали трюмные доски. Медленно шевелился на баке громадный паровой кран, готовясь вытаскивать товары. Пароход причалил к берегу.
Оглушая, прогудел гудок:
– У-у-у-ууух!..
II
Смятенная душа Лизы была полна тоски, сомнения, печали и тревоги. Кругом шла радостная суета. Пароходный оркестр вышел на палубу и играл веселый бравурный марш. От звуков его сердце Лизы разрывалось на части, и хотелось бежать куда-нибудь, чтобы не видеть суеты толпы, чтобы не слышать пошлых трубных звуков.
Шла проверка паспортов.
Чиновники не хотели пускать Февралевых на берег. Всех приезжих встречали. Кто-нибудь поручался за того, кто сходил. Февралевы остались одни, густой толпой хлынули с палубы и наполнили трап и набережную американки-туристки, студенты и студентки: они были свои, они приехали домой. Сошли немецкие евреи, встреченные местной еврейской организацией; им тут же, на пароходе, обещали места.
Помощник капитана хотел передать бумаги Февралевых этой же организации, чтобы она занялась ими, но в это время к пароходу подбежала толстая женщина и с нею короткий человек в длинном драповом пальто. Они издали махали платками и кричали:
– Февралефф!.. Акантофф!.. Russian lady!..
Они приняли Февралевых и Лизу, и чиновники пропустили их и направили в таможню.
Встретившие Февралевых заговорили по-английски:
– Брухманы, – сказал короткий человек, наголо бритый, с седо-рыжими волосами. – Мы Брухманы…
– Брухманы, – подтвердила и дама в шляпке, сбитой на бок. – Нам писали из Парижа… Все для вас готово.
Оба Брухмана пытливо и внимательно острыми глазами осматривали Наталью Петровну и девушек, как евреи и цыгане осматривают на конной ярмарке лошадей. Их быстрые глаза обшарили лица, тела, костюмы, задержались на руках и ногах, и, казалось, оба остались довольны осмотром.
– Вот мы и за вами, – быстро, на грубом английско-еврейском жаргоне Бронксвилля, тараторила толстая Брухман. – Мы же обязаны помогать друг другу. Мельхиор, получи от дамочек квитанции. Мой муж, он отвезет ваш вещи, а я устрою вам праздник… Ну надо же вам показать наш город… Надо угостить вас. Так вы же, наверно, еще и не завтракали…
У Лизы голова кружилась. Ей казалось, что каменные плиты мостовой качаются под нею, как пароходная палуба. Сразу обступивший шум и грохот города ее оглушил. Безвольно и беспомощно, ни о чем не думая, шла она рядом с Татушей за Натальей Петровной и Брухман, и обрывками слушала, что непрерывно, не умолкая, кричала Брухман:
– Так это же Америка!.. Тут мы как дома… И как хорошо, что вы решились ехать сюда… И вы, мадам, и барышни такие из себя красивенькие… Так это же – капитал!.. Ну, это не Холливуд какой-нибудь!.. Конечно… Но и тут женская красота, так ведь это же доллары!.. Это же золотые доллары…