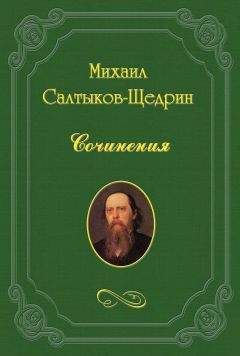Михаил Салтыков-Щедрин - Сборник
Наконец, однако, мы надоели. Года два сряду мы любовались друг другом, на третий — любоваться было уже нечем. Мы весь свой багаж разбросали разом и ничего не сумели подобрать, так что очутились совсем с пустыми руками. Все изменилось кругом нас: спрос на наши услуги вдруг понизился до минимума, снисходительные улыбки превратились в откровенно кисло-сладкие; одни мы не изменились и продолжали выказывать назойливейшую готовность идти в огонь и в воду. Тогда, чтоб отделаться от нас, потребовалось употребить насильство…
Что было потом — лучше не вспоминать. Скажу одно: человеку, который гордо шел в храм славы и, вместо того, попал в хлев, — и тому едва ли пришлось испытать столько горечи. Ошибки маршрута, особливо в таких местностях, где и храм славы, и хлев стоят рядом, не представляют еще особенно мучительной неожиданности; но замена вчерашнего лихорадочного «сования» сегодняшним оцепенением, это — более нежели неожиданность: это целый переворот. Нить жизни порвана, привычки нарушены, все планы, все стремления, все, чем жил человек, — все разом упразднено. Сколько жгучего презрения должен почувствовать человек к самому себе в минуту совершения этого переворота! Ведь он все тот же: деятельный, преданный, одушевленный — и вдруг… За что?
За что? поймите, какая масса беспомощности, самоуничиженья, напрасных укоров, бессильного ропота слышится в одном этом вопросе!
С первого раза нельзя даже понять, что такое случилось. «Выше лба уши не растут!» «Знай сверчок свой шесток»… опять! Опять эта постылая, ненавистная «мудрость веков»! В бывалое время она входила в одно ухо и выходила в другое; теперь — она хлещет по щекам! Все лицо горит, весь организм трясется. «Пятое колесо в колеснице» — кто первый выдумал это чудовищное сравнение? «Ничего не знаю», «ничего не могу!» — кто возвел эти ужасные слова в доктрину? Куда бежать, куда провалиться от этих заплечных афоризмов? Об «сованиях», конечно, нечего и думать; но куда бежать?
И вот навстречу выдвигается… гроб!
Отлично, отлично, отлично.
Теперь самое существенное, это — довести мысль до той степени неопределенности, при которой она совпадает с жужжанием. И затем — позабыть. Погрузиться со всем прошлым и настоящим на самое дно, так, чтоб выкарабкаться оттуда было нельзя, если бы даже и пришла в голову блажь опять лезть навстречу старинным «сованиям».
Как я уже сказал выше, внешняя обстановка, с самого начала, удивительно как благоприятствовала этому погружению. Но чем дальше, тем лучше. Нет ни происшествий, ни даже простого благорастворения воздухов — ничего такого, что вызвало бы попытку выйти из гроба. На дворе замечаются, правда, признаки весны, но не той светозарной, зажигающей весны, о которой повествуется в книжках, а какой-то мокрой, сонливой, кислой. Тяжелые, серые тучи повисли над домом, поселком и парком и с утра и до ночи сеют на землю мокрый снег. С 1 марта подул с юго-запада ветер, но настоящего тепла не принес, а только сырость да слякоть; иней, одевавший парк узорчатою одеждою, сполз, и деревья стоят голые и беспорядочно хлещут по воздуху отяжелевшими ветвями; дорога исковеркалась и побурела; река покрылась полыньями; в саду снег источило словно червоточиной, и по местам обнаружилась взбухшая земля; люди ходят мокрые, иззябшие, хмурые; деревня совсем почернела. Говорится в сказках о жаворонках, о волшебных метаморфозах воскресения природы, но ни жаворонков, ни воскресения нет, а есть унылая картина неопрятного превращения твердого черепа зимы в непролазные хляби весны. Только вороны суетливее прежнего хлопочут вокруг гнезд и неистовым криком как бы возвещают, что одна тоска, зимняя, кончилась, и началась другая тоска, весенняя.
Что же касается до происшествий, то я заранее решился устраниться от них и потому даже наблюдений никаких не делаю. Иногда, впрочем, я подхожу к окошку, гляжу на поселок, но особенного любопытства не ощущаю. Там во множестве кишат черные точки, погруженные в вечную страду. Кишат — и только. Борются — и не сознают борьбы; устраивают, ухичивают — и не могут дать себе отчета: что и зачем? И не хотят знать ни высших соображений, ни высших интересов, кроме, впрочем, одного, самого высшего: интереса еды. Конечно, я понимаю, что в этом-то интересе и сила вся, но странная вещь! — как только я наталкиваюсь на него (а не наткнуться — нельзя), так тотчас же чувствую непреодолимое желание обойти, замять. Разумеется, впрочем, так обойти, чтоб никто этого не заметил…
Вообще я должен сознаться, что меня всегда гораздо сильнее трогал вопрос о недостатке так называемых «свобод», нежели вопрос о недостатке еды. Еда — вещь неизменная (трудно даже вообразить: как это нет еды!), а я воспитан в традициях красивых линий и интересов исключительно спекулятивного свойства. Конечно, я не чужд и представления о бескормице, но не «такой». Вместе с Генрихом IV я охотно желаю всем и каждому курицу в супе, но именно курицу, а не ржаной хлеб, хотя бы и без примеси лебеды. Сверх того, я могу довольно легко представить себе и трагическую сторону бескормицы, но именно трагическую, красивую: вопли, стоны, проклятия, голодную смерть, а не обрядовое голодание, сопровождаемое почтительно сдерживаемым урчанием в животе и плаксивою суетою, направленною в одну точку: во что бы то ни стало оборониться от смерти.
Тем не менее иногда мне сдается, что, будь у меня, вместо множества высших интересов, только один, самый высший, — наверное, меня не грызла бы такая бешеная тоска. Очень возможно, что она заменилась бы болью, еще более жестокой, но у этой боли существовала бы реальная подкладка, на которую я мог бы сослаться с уверенностью быть понятым. А теперь, с своими «свободами», куда я пойду? С какими глазами покажусь я вот хоть на этой почерневшей от мужицкого тука улице, на которой день-деньской всё кишат, всё кишат?
Поэтому-то я и не выхожу из гроба и не наблюдаю ни над чем. Нет у меня нужной для этого подготовки. Однако ж это не мешает мне утверждать по совести, что хотя мои «высшие интересы» — и не «самые высшие», но все-таки они — не прихоть, не фанаберия, а действительная и стенящая боль сердца.
И эта боль тем несноснее щемит меня, что я обязываюсь глотать свою отраву безмолвно и в одиночку.
Однажды, впрочем, я соблазнился и чуть было совсем не выпрыгнул из гроба. Вот по какому случаю. Пришел сельский батюшка, весь встревоженный, и сообщил мне, что на селе случилось происшествие.
— Появился мужичок один, из фабричных, — рассказывал он, — наш он, коренной здешний, да не по-здешнему речь ведет. Говорит: рука божия якобы не над всеми равно благостно и равно попечительно простирается, но иных угобжает преизбыточно, а других и от малого немилостивне отстраняет…
— Воля ваша, батюшка, а тут что-то не так! — усомнился я.
— Ну, да, конечно, он, по-своему, по-мужицкому, объясняет, а редакцию-то эту уж я…
— Понимаю. Что ж дальше?
— То-то вот: как в этом разе поступить?
— То есть как же так поступить?
— Дать ли делу ход или так оставить?
— Батюшка! помилосердуйте!
— Признаться, я и сам… Только вот мужички обижаются… Кабатчик, значит… в личную себе обиду принял — ну, и прочих взбунтовал!
Я заинтересовался и пошел на село. Перед волостным правлением волновалась небольшая кучка народа, из которой неслись смутные крики. Но не успел я дойти до места судбища, как приговор уже был объявлен и приводился в исполнение: виноватого «стегали». Здоровенный мужчина сам снял с себя портки, сам лег и сам кричал: честной мир! господа честные! простите! не буду! А впоследствии я, сверх того, узнал, что, только благодаря предстательству батюшки, дело кончилось так легко и что, не будь этого предстательства, кабатчик непременно бы настоял, чтоб возмутителя его спокойствия отослали в стан.
Я возвратился домой и, признаюсь, некоторое время чувствовал себя изрядно взбудораженным. Помилуйте! Я уж совсем было начал «погружаться», а вместе с тем и самое представление о розгах уже стало помаленьку заплывать, и вдруг… Да, брат, «выше лба уши не растут!», машинально повторил я и чуть-чуть не задохся вслед за тем; до такой степени весь воздух, которым я дышал, казалось мне, провонял, протух…
Об чем собственно шла речь? — об еде. Кажется, предмет общепонятный и общедоступный, а между тем честной мир решением своим засвидетельствовал, что и дела ему до него нет, что он не желает даже, чтоб его беспокоили подобными разговорами. Что означает этот факт? То ли, что мир хотел «уважить» кабатчика? или то, что в его представлении вопрос об еде сформулировался так: ешь, что у тебя под носом?
Как бы то ни было, но от мысли, что заправский узел все-таки там, на поселке, никак не уйдешь. Как ни взмывай крыльями вверх, как ни стучи лбом об землю, как ни кружись в пространстве, а поселка все-таки не миновать. Там настоящий пуп земли, там — разгадка всех жизненных задач, там — ключ к разумению не только прошедшего и настоящего, но и будущего. И нужно пройти туда… но как же туда пройти, коль скоро там только одно слово и произносится внятно: стегать?!