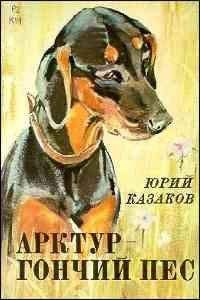Макс Фриш - Homo Фабер
Пинии во время мистраля; еще раз.
L'unite d'habitation [единство жилища (фр.)] (Корбюзье).
В целом освещение этого фильма совсем неплохое, во всяком случае куда лучше, чем лент, отснятых в Гватемале; цвет получился просто великолепный, я был поражен.
Сабет собирает цветы...
Я приладился (наконец!) держать камеру так, чтобы она не качалась из стороны в сторону, поэтому движение объекта получается гораздо четче.
Прибой...
Пальцы Сабет - она впервые увидела пробковый дуб, - ее пальцы, когда она отламывает кусочек коры и кидает его в меня!
(Дефект пленки.)
Прибой в полдень, и больше ничего.
Снова Сабет, когда она причесывается. Волосы у нее мокрые, голову она чуть наклонила набок, чтобы легче расчесать; она не видит, что я снимаю, и что-то рассказывает, продолжая расчесывать волосы; они темнее, чем обычно, потому что мокрые, совсем рыжие, ее зеленая расческа вся в песке; Сабет продувает расческу, ее мраморная кожа с капельками воды, она продолжает рассказывать...
Подводная лодка в Тулоне.
Молодой бродяга с омаром в руках, омар двигает клешнями, и Сабет всякий раз пугается...
Наша маленькая гостиница в Ле-Трайя.
Сабет сидит на молу...
Еще раз прибой.
(Слишком затянуто!)
Сабет еще раз на молу; она стоит, наша мертвая дочка, и поет, снова засунув руки в карманы штанов; она думает, что она здесь совершенно одна, и поет, но этого не слышно...
Конец катушки.
Что подумал обо мне юный механик и что он сказал, когда собрались господа из правления, я не знаю; я сидел в вагоне-ресторане экспресса (то ли "Гельвеция-экспресс", то ли экспресс "Красоты природы", я уже не помню) и пил минеральную воду. Как я ушел из здания фирмы "Хенке - Бош", я тоже уже не знаю; я просто ушел, ничего не объяснив, не найдя никакого благовидного предлога.
Я только оставил им нужные фильмы.
Я сказал механику, что мне необходимо уйти, и поблагодарил его за помощь. Я вышел в прихожую, где оставил пальто и шляпу, потом попросил секретаршу принести мне портфель, который я оставил в комнате правления. Я стоял у лифта; было 11:32, и все как раз собирались идти на просмотр, а я извинился, ссылаясь на боли в желудке (что было неправдой), и сел в лифт. Мне предложили отвезти меня на машине в гостиницу или в больницу; но у меня ведь вовсе не было никаких болей, я поблагодарил и пошел пешком. Я шел не торопясь, не имея никакого представления, куда иду: я не знаю, как выглядит теперь Дюссельдорф; я шел по городу, где такое же движение, не обращая внимания на светофоры, я шел, мне кажется, как слепой. Я направился к вокзалу, купил в кассе билет и сел в первый отходящий поезд, - и вот теперь я пью минеральную воду в вагоне-ресторане и гляжу в окно; я не плачу, мне просто хочется больше не быть, не существовать, исчезнуть... Зачем глядеть в окно? Мне больше не на что смотреть. Ее руки, которых нигде больше нет, ее движения, когда она откидывает волосы на затылок или причесывается, ее зубы, ее губы, ее глаза, которых нигде больше нет, ее лоб: где мне все это искать? Я хотел бы одного - чтоб меня вообще никогда не было. Зачем я еду, собственно говоря, в Цюрих? Зачем в Афины? Я сижу в вагоне-ресторане и думаю: почему бы мне не взять вот эти две вилки, не поставить их торчком и не уронить на них свое лицо, чтобы избавиться от глаз?
Моя операция назначена на послезавтра.
_P.S. В течение всего своего путешествия я не имел ни малейшего представления о том, что Ганна делала после несчастья. Я не получил от нее ни одного письма! Я и теперь еще этого не знаю. Когда я ее спрашиваю, она мне отвечает: "Что я могу делать!" Я вообще перестал что-либо понимать. Как может Ганна после всего случившегося еще выносить меня? Она приходит сюда, чтобы поскорее уйти, а потом снова возвращается, она приносит мне все, что мне хочется, она меня выслушивает. Что она думает? Волосы у нее стали совсем седые. Почему она не говорит мне, что я загубил ее жизнь? После всего, что случилось, я не могу себе представить, как она живет. Один-единственный раз я понял ее - тогда, у кровати мертвой дочери, когда она била меня кулаками по лицу. С тех пор я ее больше не понимаю._
16/VII. Цюрих.
Я поехал из Дюссельдорфа в Цюрих, как мне кажется, только потому, что не видел свой родной город уже многие десятилетия.
Вильямс ждал меня в Париже...
Делать мне в Цюрихе было нечего.
В Цюрихе, когда профессор О. остановил возле меня машину и вышел, чтобы со мной поздороваться, я его снова не узнал; точь-в-точь как в прошлый раз: череп, обтянутый кожей - не человеческой кожей, а дубленой желтой кожей, как на портфелях, живот как мяч, уши торчком, та же сердечность, та же улыбка, похожая на оскал черепа, глаза все еще живые, но совсем провалившиеся; я знал только, что я знаком с ним, но в первое мгновение опять не мог сообразить, кто это.
- Все торопитесь? - смеялся он. - Все торопитесь?
Спросил, что я делаю в Цюрихе.
- Вы что, меня снова не узнаете?
Вид у него был жуткий, я не находил слов; конечно, я его узнал, только в первую минуту я растерялся от испуга, а потом меня сковал страх, что я ляпну что-нибудь невозможное. Я ответил:
- Нет, сегодня я не спешу.
Мы пошли вместе в кафе "Одеон".
- Мне очень жаль, - сказал я, - что я вас не сразу узнал тогда в Париже.
Но он на меня не сердился, он смеялся; я слушал его, глядя на его старые зубы: это только казалось, что он смеется, его зубы были слишком велики, у него теперь не хватало ни кожи, ни мускулов для несмеющегося лица; я беседовал с черепом, я должен был взять себя в руки, чтобы не спросить профессора О., когда же он наконец умрет. Он смеялся:
- Что это вы рисуете, Фабер?
Я рисовал на мраморной крышке столика, - собственно говоря, не рисовал, а просто черкал карандашом; в желтом мраморе была какая-то жилка, она напоминала улитку, и я превратил ее в спираль, в незатейливую спираль; но, когда он спросил меня об этом, я спрятал в карман карандаш, и мы продолжали наш разговор о мировой политике, но его смех мне настолько мешал, что я уже был не в силах вымолвить слово.
Что же это я такой молчаливый?
Один из старых официантов кафе "Одеон", венец Петер, узнал меня; он нашел, что я нисколько не изменился.
Профессор О. смеялся. Он выразил сожаление, что я в свое время не довел свою диссертацию (о так называемом максвелловском демоне) до конца.
В кафе было полным-полно кокоток, как и прежде.
- Знаете ли вы, - смеялся он, - что кафе "Одеон" снесут?
И вдруг его вопрос:
- Как поживает ваша красивая дочь?
Он видел Сабет, когда мы с ним простились тогда, в кафе, в Париже; как он сказал, "недавно в Париже"! Это было после обеда, перед тем как мы с Сабет пошли в оперу, в канун первого дня нашего свадебного путешествия...
Я ничего не ответил, только сказал:
- Откуда вы знаете, что это была моя дочь?
- Я так подумал.
Снова его смех.
В Цюрихе мне делать было решительно нечего; и в тот же день (после болтовни в "Одеоне" с профессором О.) я поехал в Клотен, чтобы лететь дальше. Мой последний полет!
Снова "суперконстэллейшн".
Это был, собственно говоря, спокойный полет, только слабый фен поднялся над Альпами, которые я с детских лет неплохо знаю, но впервые над ними лечу: голубое небо перед закатом, обычный фен, а внизу - Фирвальдштетское озеро, справа - Веттергорн, за ним Эйгер и Юнгфрау, а быть может, и Финстерааргорн, так точно я наших гор уже не помню, у меня другое в голове...
А что, собственно говоря?
Долины в скупом свете надвигающихся сумерек, склоны, на которые уже спустилась тень, ущелье, где уже давно зашло солнце, белые ленточки горных речек, пастбище, стога сена, красные в отсвете заката, стадо в лощине, белая галька на границе леса - как белые личинки! (Сабет, конечно, назвала бы это иначе, но я не знаю как.) И я уперся лбом в холодное стекло; бесполезные мысли...
Хочется вдыхать запах сена!
Никогда больше не летать!
Хочется ходить по земле - вон там, внизу, у сосен, на которые еще падает солнечный свет; вдыхать запах смолы, слышать, как шумит вода, как она грохочет, пить воду...
Все проносится мимо, как в кино!
Хочется взять в руку горсть земли...
Вместо этого мы продолжаем набирать высоту.
Зона жизни - какая она, собственно говоря, узкая, несколько сот метров, а выше атмосфера слишком разреженная, становится чересчур холодно, можно сказать, человечество живет в оазисе, на дне зеленой долины, у нее есть узкие разветвления, а потом оазис кончается, леса уже не растут (у нас на высоте двух тысяч метров, в Мексике - четырех тысяч метров), выше еще встречаются стада, они пасутся как бы на границе возможной жизни, там еще есть цветы (я их не вижу, но знаю, что они есть), яркие и пахучие, но крохотные, есть насекомые, а потом только камни, только лед.
Я увидел новое озеро, образовавшееся благодаря плотине.
Его вода как перно, зеленоватая и мутная, а в ней отражается снежная вершина, у берега стоит лодка; вокруг ни души.