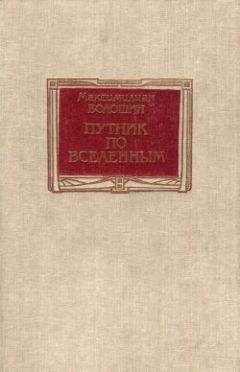Влас Дорошевич - Каторга
Тут труднее, чем где бы то ни было, узнать истину. И правосудию, окруженному непроходимой ложью, нигде так не легко впасть в ошибку.
При таких условиях "непоправимость наказания" вселяет особенный ужас. Смертная казнь, это страшное, непоправимое, могущее часто быть ошибочным, двадцатитрехлетним опытом доказавшее свою несостоятельность в деле устрашения наказания, четыре года было спрятано в архив на Сахалине, и никому никакого худа от этого не вышло.
Палачи
ТОЛСТЫХ
- Здравствуй, умница!
- Здравствуй, дяденька!
- Кому, дурочка, дяденька, а твоему сожителю крестный отец! - весело шутит на ходу старый сахалинский палач Толстых.
- Да почему же ты ему крестный отец?
- Драл я ее сожителя, ваше высокоблагородие!
- А много ты народа передрал?
Только посмеивается.
- Да вот все, что кругом, ваше высокоблагородие, видите, - все мною перепорото!
Толстых лет под шестьдесят. Нона вид не больше сорока. Он бравый мужчина, в усах, подбородок всегда чисто-начисто бреет. Живет по-сахалински, зажиточно. Одет щеголевато, в пиджак, высокие сапоги, даже кожаную фуражку, - верх сахалинского шика. Вообще "себя соблюдает". Настроение духа у него всегда великолепное: шутит и балагурит.
Толстых, - как и по его странной фамилии видно, сибиряк. На вопрос, за что попал в каторгу, отвечает:
- За жану!
Он отрубил жене топором голову.
- За что ж ты так ее?
- Гуляла, ваше высокоблагородие.
Попав на Сахалин, этот сибирский Отелло "не потерялся". Сразу нашелся: жестокий по природе, сильный, ловкий, он пошел в палачи.
Человек рожден быть артистом. Человек изо всего сделает искусство. Какой инструмент ему ни дайте, он на всяком сделается виртоузом. Сами смотрители тюрем жалуются:
- У хорошего палача ни за что не разберешь: действительно он порет страшно, или вид только делает. Удар наносит, кажется, страшный...
Действительно, сердце падает, как взмахнет плетью...
- А ложится плеть мягко и без боли. Умеют они это, подлецы делать. Не уконтролируешь!
Толстых научился владеть плетью в совершенстве. И грабил же он каторгу! Заплатят, - после ста плетей человек встанет, как ни в чем не бывало. Не заплатят, - держись.
Человек ловкий и оборотистый, он умел вести свои дела "чисто": и начальство его поймать не могло и каторга боялась.
Боялась, но в те жестокие времена палача, с которым можно столковаться, считала для себя удобным.
- Знал, с кого сколько взять! - поясняли мне старые каторжане на вопрос, как же каторга терпела такого "грабителя".
- Мне каторга, неча Бога гневить, досталась легко! - говорит Толстых.
Окончив срок каторги, Толстых вышел на поселение с деньгами и занялся торговлей. Он барышничает, скупая и перепродавая разное старье.
Его никто не чурается, - напротив, с ним имеют дело охотно.
- Парень-то больно оборотистый!
Когда я познакомился с Толстых, он переживал трудные времена: кому-то надерзил, и его на месяц отдали "в работу"; назначили рассыльным при тюрьме.
- День денской бегаю. В делах упущенье. Хотя бы вы за меня, ваше высокоблагородие, похлопотали! - просил Толстых. - За что же меня в работу? Затруднительно.
- В палачах, небось, легче было?
- В палачах, известно. Там доход.
- Что же, опять бы в палачи хотелось?
- Зачем? Я и торговлишкой хлеб имею. Палач - дело каторжное. А я теперь - поселенец. Так, порю иногда по вольному найму.
- Как "по вольному найму?"
- Палача в прошлом вот году при тюрьме не было. Никто не хотел. А приговоров накопилось, - исполнять надо. Ну, и перепорол 50 человек за три целковых.
- А правду про тебя, Толстых, рассказывают, что ты нанимался за 15 рублей насмерть запороть арестанта Школкина?
Только посмеивается:
- Сакалин, ваше высокоблагородие!
МЕДВЕДЕВ
Палач Корсаковской тюрьмы, Медведев, быть может, самое отвратительное и несчастное существо на Сахалине.
Вся жизнь его - сплошной трепет.
Проходя мимо тюрьмы, вы увидите у ворот приземистого, нескладного арестанта. Руки, как грабли. Большие оттопырившиеся уши торчат, как лопухи. Маленький красненький нос. Лицо - словно морда огромной летучей мыши.
От ворот он не отходит ни шага. Это - Медведев "гуляет". Он все время держится на глазах у часовых и ни за что не отойдет в сторону.
Будто прикованный!
Медведев и в палачи пошел "из страха".
В 1893 году он судился в Екатеринодаре за убийство хозяина постоялого двора, у которого служил в работниках. Убийство с целью грабежа. Хозяин, по словам Медведева, был ему должен и не отдавал денег.
- По подозрению в убийстве! - говорит Медведев.
И этот человек, вызвавшийся быть палачом, вешавший, - упорно отрицает, что он убил хозяина.
- Не мой грех, да и все.
После того, как мы познакомились больше, Медведев объяснил мне, почему он так упорно отрицает свою вину.
- Не в сознании я судился.
- Ну?
- Ну, и положили мне наказание. А скажу, что я, пожалуй, еще наказание прибавят. Мне теперь говорить нельзя.
В палачи Медведев пошел из страха перед каторгой.
- Слыхал, что в каторге людей под земь сажают. Боялся я шибко. Потому и в палачи вызвался, - думал, в Рассее при тюрьме оставят.
В тюрьме, где содержался Медведев, предстояла казнь двух кавказцев-разбойников. Палача не было, Медведев и "вызвался".
Об этой казни Медведев рассказывает с тем же тупым, спокойным лицом, равнодушно, до сих пор только жалеет, что "не все по положению получил".
- Рубаха красная мне следовала. Да сшить не успели, - так рубаха и пропала. Халат только новый дали.
- Что ж ты перед казнью водку хоть пил?
- Нет, зачем. Захмелеть боялся. Был тверезый.
- И ничего? - Не страшно было?
- Ничаво. Только как закрутился первый, страшно стало. В душу подступило.
И Медведев указал куда-то на селезенку.
- Ну, а если бы здесь вешать пришлось?
- Что ж. Прикажут, - повешу.
Надежды Медведева не сбылись: палачом его при тюрьме не оставили, а послали на Сахалин.
- Ну, хорошо. Там ты в палачи пошел, боялся, что под земь на каторге посадят. А здесь-то зачем же в палачах остался? Здесь ведь ты увидел, что это все сказки и под земь не сажают.
- А здесь уж мне нельзя. Мне уже в арестантскую команду идти невозможно: палачом был, - пришьют. Мне из палачей уходить невозможно.
И он держится в палачах из страха.
Медведев живет в страшной нищете: никакого имущества. Ничего, кроме кобылы да плети, - казенных вещей, сданных ему на хранение.
Из страха он не берет даже взяток.
Когда пригоняется новая партия, между арестантами всегда идет сбор "на палача", - для тех, кто пришел на Сахалин с наказаньем плетьми или розгами, по приговору суда. Ни один арестант никогда не откажет в копейке, последнюю отдает при сборе "на палача". Это - обычный доход палачей.
Но Медведев и от этого отказывается:
- Нельзя. Возьмешь деньги да тихо драть будешь, - из палачей выгонят. А возьмешь деньги да шибко пороть начнешь, - каторга убьет.
И то, что он не берет, в один голос подтверждает вся тюрьма.
- Хоть ты ему что, - запорет!
Дерет он, действительно, отчаянно.
- Так, пес, смотрителю в глаза и смотрит. Ему только мигни, - дух вышибет. Нешто он что чувствует!
А "чувствует" Медведев, когда перед ним лежит арестант, вероятно, многое. Этот трус становится на одну минуту могучим. Все вымещает он тогда: и вечное унижение, и вечный животный страх, и нищету свою, и свою боязнь брать. Все припоминается Медведеву, когда перед ним лежит человек, которого он боится. За всю свою собачью жизнь рассчитывается.
И чем больше озлобляется, тем больше боится, и чем больше боится, тем больше озлобляется.
Из страха Медведев даже не пользуется тем некоторым комфортом, который полагается палачу.
Палачу полагается отдельная каморка. Медведев в ней не живет:
- Ночью выломают двери и пришьют.
Он валяется у хлебопеков. От хлебопеков зависит количество припека: смотрители хлебопеков ценят; хлебопеков не дерут, - хлебопекам не за что злобствовать на палача, - и у них Медведев чувствует себя в безопасности. Хлебопеки его, конечно, презирают и "держат за собаку". Когда кто-нибудь из хлебопеков напьется, он глумится над Медведевым, заставляет его, например, спать под лавкой.
- А то выгоню!
И тот лезет под лавку, как собака.
- Ночью-то он на минутку выйти боится!
Медведев со страхом и ужасом думает о том, о чем всякий каторжник только и мечтает: когда он кончит каторгу.
- О чем я вас попросить хотел, ваше высокоблагородие! - робко и нерешительно обратился он однажды ко мне, и в голосе его слышалось столько мольбы. - Попросите смотрителя, когда мне срок кончится, чтоб меня в палачах оставили. Как мне на поселение выйти? Убьют меня, беспременно убьют!
И он даже прослезился, - этот человек, мечта которого остаться до конца жизни палачом, ужас которого - выйти на свободу.
Он повалился в ноги: