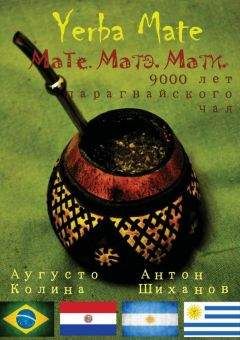Варлам Шаламов - Воскрешение лиственницы
Толпа все росла – вот старики разделили толпу на отряды, на армии. Половина ушла в засаду, на перехват.
Белка увидела выбегающих из переулка людей раньше, чем люди увидели ее, и все поняла. Надо было спускаться, перебежать десять шагов, а там снова деревья бульвара, и белка еще покажет себя этим псам, этим героям.
Белка спрыгнула на землю, кинулась прямо в толпу, хотя навстречу летели камни, палки. И, проскочив сквозь эти палки, сквозь людей – бей! бей! не давай дыхнуть! – белка оглянулась. Город настигал ее. Камень попал ей в бок, белка упала, но тут же вскочила и бросилась вперед. Белка добежала до дерева, до спасения, и вскарабкалась по стволу, и перебежала на ветку, на ветку сосны.
– Бессмертная, сволочь!
– Теперь надо окружать у реки, у переката! Но окружать было не надо. Белка перебиралась по ветке еле-еле, и это сразу заметили и зарычали.
Белка раскачалась на ветке, последний раз напрягла силы и упала прямо в воющую, хрипящую толпу.
В толпе возникло движение, как в закипающем котле, и, как в котле, снятом с огня, движение это затихло, и люди стали отходить от того места на траве, где лежала белка.
Толпа быстро редела – ведь каждому было нужно на работу, у каждого было дело к городу, к жизни. Но ни один не ушел домой, не взглянув на мертвую белку, не убедившись собственными глазами, что охота удачна, долг выполнен.
Я протискался сквозь редеющую толпу поближе, ведь я тоже улюлюкал, тоже убивал. Я имел право, как все, как весь город, все классы и партии…
Я посмотрел на желтое тельце белки, на кровь, запекшуюся на губах, мордочке, на глаза, спокойно глядящие в синее небо тихого нашего города.
1966
Водопад
В июле, когда температура днем достигает сорока по Цельсию – тепловое равновесие континентальной Колымы, – повинуясь тяжелой силе внезапных дождей, на лесных полянках поднимаются, пугая людей, неестественно огромные маслята со скользкими змеиными шкурами, пестрыми змеиными шкурами – красные, синие, желтые… Внезапные эти дожди приносят тайге, лесу, камням, мхам, лишайнику только минутное облегчение. Природа и не рассчитывала на этот плодоносящий, животворный, благодетельный дождь. Дождь раскрывает все скрытые силы природы, и шляпки маслят тяжелеют, растут – по полметра в диаметре. Это пугающие, чудовищные грибы. Дождь приносит лишь минутное облегчение – в глубоких ущельях лежит зимний, навечный лед. Грибы, их молодая грибная сила вовсе не для льда. И никакие дожди, никакие потоки воды не страшны этим гладким алюминиевым льдинам. Лед прикрывает собой камень русла, становится похожим на цемент взлетной дорожки аэродрома… И по руслу, по этой взлетной дорожке, убыстряя свое движение, свой бег, летит вода, накопившаяся на горных пластах после многодневных дождей, соединившаяся с растаявшим снегом, снег превратившая в воду и позвавшая в небо, в полет…
Бурная вода сбегает, слетает с горных вершин по ущельям, добирается до русла реки, где поединок солнца и льда уже закончен, лед растаял. В ручье лед еще не растаял. Но трехметровый лед ручью не помеха. Вода бежит прямо к реке по этой мерзлой взлетной дорожке. Ручей в синем небе кажется алюминиевым, непрозрачным, но светлым и легким алюминием. Ручей разбегается по гладкому блестящему льду. Разбегается и прыгает в воздух. Ручей давно, еще в начале бега, в вершинах скал считает себя самолетом, и взвиться над рекой – единственное желание ручья.
Разбежавшийся, сигарообразный, алюминиевый ручей взлетает в воздух, прыгает с обрыва в воздух. Ты – холоп Никитка, придумавший крылья, придумавший птичьи крылья. Ты – Татлин-Летатлин, доверивший дереву секреты птичьего крыла. Ты – Лилиенталь…
Разбежавшийся ручей прыгает и не может не прыгать – набегающие волны теснят те, что ближе к обрыву.
Прыгает в воздух и разбивается о воздух. У воздуха оказывается каменная сила, каменное сопротивление – только на первый взгляд издали воздух кажется «средой» из учебников, свободной средой, где можно дышать, двигаться, жить, летать.
Ясно видно, как хрустальная струя воды ударяется о голубую воздушную стену, прочную стену, воздушную стену. Ударяется и разбивается вдребезги – в брызги, в капли, бессильно падая с десятиметровой высоты в ущелье.
Оказывается, что гигантской воды, скопленной в ущельях, в разбеге силы, достаточной для того, чтобы сокрушить скалистые берега, выворачивать деревья с корнем и бросать их в поток, шатать и разламывать скалы, сметать все на своем пути в законе половодья, потока, – этой силы мало, чтобы справиться с косностью воздуха, того самого воздуха, которым так легко дышать, воздуха, который прозрачен и уступчив, уступчив до невидимости и кажется символом такой свободы. У этого воздуха, оказывается, есть такие косные силы, с которыми не сравнится никакая скала, никакая вода.
Брызги, капли мгновенно соединяются вновь, снова падают, снова разбиваются и с визгом, ревом добираются до русла – огромных каменных валунов, шлифованных веками, тысячелетиями…
Ручей доползает до русла реки по тысяче дорожек между валунов, камней, камешков, которые капли, ручеечки, ниточки укрощенной воды боятся и пошевелить. Ручей, разбитый, укрощенный, тихо, беззвучно вползает в реку, очерчивая светлый полукруг в темной воде бегущей мимо реки. Реке нет дела до этого ручья-Летатлина, ручья-Лилиенталя. Реке некогда ждать. Впрочем, река чуть отступает, давая место светлой воде разбитого ручья, и видно, как поднимаются из глубины к светлому полукругу, заглядывая в ручей, горные хариусы. Хариусы стоят в темной реке близ светлого полукруга воды, на устье ручья. Рыбная ловля здесь неизменно хороша.
1966
Укрощая огонь
Я бывал в огне, и не один раз. Мальчиком я пробегал по улицам горящего деревянного города и на всю жизнь запомнил яркие, освещенные дневные улицы, как будто солнца городу не хватало и он сам попросил огня. Безветренная тревога горячего светло-голубого раскаленного неба. Сила копилась в самом огне, в самом нарастающем пламени. Никакого ветра не было, но городские дома рычали, дрожа всем телом, и швыряли горящие доски на крыши домов через улицу.
Внутри было просто сухо, тепло, светло, и я мальчиком без труда, без страха прошел эти пропустившие меня живым и тут же сгоревшие дотла улицы. Сгорело все заречье, и только река спасла главную часть города.
Это чувство покоя в разгар пожара испытал я и взрослым. Лесных пожаров я видел немало. Ступал по горячему, синему, пышному, пережженному, как ткань, мху метровой толщины. Пробирался через поваленный пожаром лиственный лес. Лиственницы выдирало с корнем и валило не ветром – огнем.
Огонь был как буря, он сам создавал бурю, валил деревья, оставил навечно черный след по тайге. И падал в бессилье на берегу какого-нибудь ручья.
По сухой траве пробегало светлое, желтое пламя. Трава колебалась, шевелилась, как будто там пробежала змея. Но змеи на Колыме не водятся.
Желтое пламя взбегало на дерево, на ствол лиственницы, и, уже набирая силу, огонь ревел, сотрясал ствол.
Эти судороги деревьев, предсмертные судороги были везде одинаковы. Гиппократову маску дерева видел я не однажды.
Над больницей целых три дня лил дождь, и потому я думал о пожаре, вспоминал огонь. Дождь спас бы город, склад геологов, горящую тайгу. Вода сильнее огня.
Выздоравливающие больные ходили за ягодами, за грибами за речку – там была пропасть голубики, брусники, заросли чудовищных скользких разноцветных маслят с шляпкой скользкой и холодной. Грибы казались холодными, холоднокровными живыми существами, вроде змей, – чем угодно, только не грибами. Здешние грибы не умещались в привычные классификации естествознания и выглядели существами из соседнего ряда амфибий, змей…
Грибы рождаются поздно, после дождей, рождаются не каждый год, но если уж уродились – окружают каждую палатку, заполняют каждый лес, каждый подлесок.
За этими дикоростами мы ходили каждый день.
Сегодня было холодно, дул ветер холодный, но дождь перестал, сквозь рваные тучи виднелось бледное осеннее небо, и было ясно, что дождя сегодня не будет.
Можно, нужно было идти за грибами. После дождя – урожай. В небольшой лодке втроем мы переправлялись через речушку, так, как делали каждое утро. Вода чуть-чуть прибывала, бежала чуть-чуть быстрее, чем обычно. Волны были темнее, чем всегда.
Сафонов показал пальцем на воду, показал вверх по течению, и мы все трое поняли, что он хотел сказать.
– Успеем. Грибов богато, – сказал Веригин.
– Не назад же возвращаться, – сказал я.
– Давайте так, – сказал Сафонов, – к четырем часам вот против той горы бывает солнце, в четыре возвращаться на берег. Лодку привяжем повыше…
Мы разошлись в разные стороны – у всех были любимые грибные места.