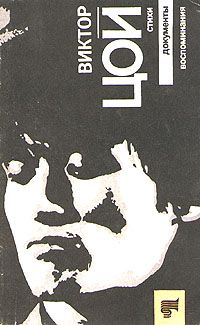Николай Брешко-Брешковский - Ремесло сатаны
– Командующий дивизией генерал Столешников желает перетащить тебя к себе в штаб. Что ты на это скажешь?
– Я хотел бы остаться в полку.
– Я так и думал. Во всяком случае, я тебя так легко, без борьбы, не отдам Столешникову. Если же он будет слишком наседать, к сожалению, – воля начальства, – придется уступить.
Загорский не одними только реляциями проявил себя. Им сделано было много ценных разведок. Иногда, спешившись ночью, подползал он к линиям неприятельского расположения, проникал в тыл, почти к самым артиллерийским позициям и возвращался в штаб полка, сделав подробнейшие «кроки», где какая стоит батарея, где замаскированные пулеметы и как идут одна за другой линии окопов.
Однажды на основании таких «кроки», сделанных с мастерством офицера генерального штаба, предпринято было наступление, завершившееся полной удачей, до уничтожения австрийских батарей включительно. Грудь Загорского украсилась вторым серебряным крестом.
Спустя несколько дней он был представлен к третьему – золотому. Это случилось перед тем, как полк пришел на отдых в Тернополь. Штаб его стоял в покинутом графском имении Ягельницы. Боев не было. В шести-семи верстах от Ягельниц – местечко, занятое и укрепленное неприятелем. Штаб не имел никаких сведений, а надо было путем самой тщательной разведки выяснить силы австрийцев и степень их укрепленности.
Штаб с комфортом расположился в графском палаццо. Покинувшие усадьбу владельцы отдали приказ оставшимся слугам ни в чем не отказывать русским офицерам. Графский повар готовил вкусные обеды и завтраки. К столу подавалось выдержанное в погребах венгерское, столетний мед в запыленных бутылках.
В «белой» гостиной Загорский, подсев к роялю, отыскивал в грудах нот шумановский «Карнавал».
Звон шпор. Загорский увидел перед собой полную, откормленную фигуру Пехтеева.
– Телефонограмма из штаба дивизии, Будь другом, ты, как никто, сумеешь угодить Столешникову…
Через десять минут, пригибаясь на широкой рыси своего мощного «Лузиньяна», выехал Загорский в сопровождении двух гусар за каменные ворота усадьбы.
Липовая аллея. Мягкая плотина; пружинящая под копытами лошадей. Блеснула, внизу вода. Кони зацокали по камням шоссейного полотна. Вдаль тянулась вереница телеграфных столбов. Кое-где обвисла, кое-где совсем оборвана проволока. Австрийский императорско-королевский телеграф безмолвствовал.
Впереди начиналось «мертвое» пространство, не занятое ни другом, ни недругом. Это мертвое пространство горело все в пепельном пурпуре сентябрьского вечернего солнца. И на фоне этого холодного пламени резким силуэтом намечалась колокольня костела местечка, где засели австрийцы.
Сначала план Загорского был таков: дождавшись сумерек и оставив одного гусара с лошадьми где-нибудь в овраге или кустах, он с другим спутником незаметно проберется к местечку, чтобы выведать необходимое, если, разумеется, не обломает себе зубов в прямом и переносном смысле о первое же проволочное заграждение.
Так думал Загорский вначале. Но потом, когда уже несся широким галопом по обочине шоссе, разгоряченный ездою, под впечатлением этого ликующего пространства и бьющего в лицо ветерка, овладела им, – иначе ее не назовешь, – вдохновенная дерзость. Он и сам не мог потом объяснить, как это случилось. Инстинкт, который сильнее человека, подсказал ему нестись без всякой опаски все вперед и вперед.
Не имея никаких оснований, без всяких данных, он был «уверен», что австрийцы покинули местечко, отошли к себе вглубь.
И вот, уже пьянея от перешедшего в карьер галопа, несется прямо на самые австрийские рогатки, баррикадирующие шоссе. Оба гусара еле поспевают за ним, задевая остриями пик листву деревьев.
Уже близко, совсем близко… И странно, что никто не встречает их ружейной трескотней. Молчит, зловеще молчит паутина проволоки, молчат окопы. И рогатки смешались, скомканные, можно проехать свободно.
Вымерли окопы. На дне их блестят пустые обоймы, сверкнула бутылка. Измятый головной убор пехотного гонведа, тряпица…
Мимо…
Единственная улица местечка. Никого, ни души. Только сидит на призьбе хаты слепой старик в теплом кожухе, русин. Да еврейка в белых чулках и пантофлях испуганно прижалась к стене. Тощую, с грязной, клочьями висевшей шерстью козу чуть не раздавила большая могучая лошадь.
Загорский, бросив повод гусару, полез на колокольню ветхого серого костела. Очутившись в башенке, средь небольших католических колоколов, приводимых в движение за верхнюю «коронку», он, вооружившись «Цейсом», стал зорко нащупывать далеко убегавшую окрестность. И хотя все понемногу заволакивалось вечерней дымкой, еще ясно проступали реки, луга, поля, опушки лесов, деревни. Видимо, австрийцы успели отступить далеко. Ничего не видно, ни одной колонны. Однако вот открытие… И сердце забилось шибче. Верстах в трех отступал по проселочной дороге растянувшийся обоз. На глаз примерно этак семьдесят-восемьдесят фурманок, и можно различить пехотное прикрытие, в общем, около роты.
Загорский, добыв из полевой сумки бумагу и сверяясь с картой участка, набросал план местности, обозначил дорогу, с без малого полутораверстной линией обоза и написал карандашом записку Вавусе.
«Обнаружил неприятельский обоз примерно в восемьдесят подвод. Охранение около роты. Главные силы отошли далеко. Горизонт чист на пятнадцать верст, немедленно атакуйте обоз всем полком в голову, в тыл и во фланг».
Спустившись с колокольни, Загорский передал гусару план и записку.
– Хорольский, скачи в штаб карьером и передай это полковнику Пехтееву.
– Слушаю, – весело блеснул крепкими молодыми зубами на, фоне смуглого запыленного лица Хорольский. Через минуту уже Бог знает где цокали камни под копытами его лошади.
Дима закурил папиросу, молча глядя на гусара, державшего двух коней в поводу.
– Обнаружили, Дмитрий Владимирович? – спросил гусар.
– Обоз, – ответил коротко Загорский, думая о чем-то своем.
Не спеша возвращался он, только б успеть присоединиться к своему эскадрону для атаки.
Атака получилась на славу. Вихрем налетели черноградцы. Многих порубили, многие, бросая винтовки, сдавались в плен. Обоз с ценной военной добычей – патронными ящиками, радиотелеграфной станцией, заградительной проволокой и всяким другим, не менее интересным добром – очутился в наших руках.
За это представлен Загорский был к Георгиевскому кресту второй степени. Все шло так гладко. И он сам говорил, что ему везет анафемски. Но это до поры до времени, сгущалась и над его головой, вместо ликующих ясных небес, черная туча…
6. Западня
Большая закрытая машина ожидала Веру на углу Вознесенского и Екатерингофского. Громадные очки закрывали все лицо шофера. И это было зловеще. Молча кивнув головой, он, перегнувшись назад, распахнул дверцу.
Забугина села, дверца захлопнулась. В купе от плотно спущенных занавесок – темень кромешная. Вера почувствовала рядом с собой кого-то другого. А думала, что будет одна. Дрогнувши вырвалось:
– Кто здесь?
Под шум уже мчавшегося полным ходом автомобиля ей ответил назнакомый и в то же время как будто где-то, когда-то уже слышанный голос.
– Не извольте беспокоиться, сударыня… С вами рядом – лицо, хорошо известное барону и основательно посвященное во всю эту историю…
У Веры отлегло чуть-чуть. Она спросила тихо:
– Куда же мы едем?
– Я не могу вам сказать, куда мы едем, но там, где мы будем через десять-пятнадцать минут, вы расскажете одному высокопоставленному лицу все, что слышали, и все, что вы знаете…
– Я так мало знаю… мои сведения так случайны…
– Пустяки, сударыня… Кто это сказал: мой стакан не велик, но я пью из своего стакана.
Ужасный французский выговор! Да и вообще… это «сударыня»… Однако неужели барон послал за ней кого-нибудь из своих лакеев? Спутник, во всяком случае, не из особенно приятных.
А «спутник», вдруг схватив обе руки девушки, так сжал их своими железными пальцами, что заныли все суставы. В другой руке вспыхнул электрический фонарик.
– Посмотри. Узнаешь?
Совсем-совсем близко – усатое румяное лицо, казавшееся загримированным. И глаза казались чужими, взятыми напрокат с другого лица, нахальные, карие глаза.
Похолодевшая Вера сделала несколько беззвучных движений губами. Не хватало воздуха, сил не хватало. В кошмарном сне или в столбняке так бывает…
– Узнала теперь? А помнишь, как ты кочевряжилась, как своему хахалю жаловалась? Что, небось далеко, за тридевять земель этот самый бритый лорд? Теперь не заступится! Молчи, все равно никто не услышит! Впрочем, так будет надежней…
Фонарик погас. Генрих Альбертович вынул откуда-то влажный, неприятно пахнущий платок и прижал его к лицу Забугиной, плотно закрыв нос и рот. Через несколько секунд Вера откинулась на кожаные подушки без сознания…