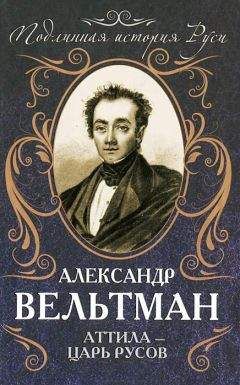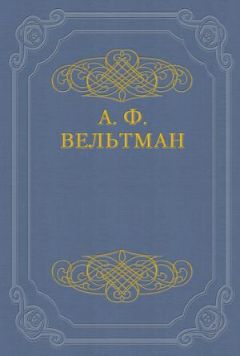Александр Вельтман - Повести и рассказы
Я видел, как смиренно вошел Мемнон в церковь и стал у стенки. Сотворив несколько земных поклонов, не поднимая глаз, он поклонился на все стороны, хотя в храме почти никого еще не было. Монашенки пели на крылосах, и ряд их стоял у стены, против алтаря. Я замечал, куда обратит Мемнон взоры своя, но он был полон молитвы. Взоры его были поникнуты с какою-то боязнью взглянуть на все его окружающее.
Перед окончанием вечерни раздался колокольчик; сквозь толпы богомольцев-поселян прошли две монашенки, одна с кружкою, другая с серебряным блюдом.
Я смотрел, когда они приблизились к Мемнону, и, может быть, только я видел, как одна из них, поклонившись ему, приложила руку к груди и подняла взор к небу.
Надобно было видеть и ее и Мемнона, протянувшего руку к блюду, чтобы положить серебряную монету.
Она была полна красоты печальной. То был лик благочестия и смирения. Я смотрел на Мемнона, на нее, думал о судьбе еще трех существ и молился, не чувствуя, что слезы падали из глаз моих. Не в силах был я переносить долго положение Мемнона; на четвертый день я простился с ним.
– Торопись, – сказал он, – тебя ожидают объятия любви.
Я поехал. Слова Мемнона: «тебя ожидают объятия любви» – создавали в мыслях моих волшебные обители блаженства, посреди благоухающих рощей, на островах, обмываемых живыми струями серебряных вод. Чья-то жизнь посреди сих очарований полна была неги и взаимности. Вся природа, казалось, слушала, что шепчут друг другу два счастливых существа; поцелуй раздавался посреди благоговейного затишья, говора струй, шелеста листьев, песней птиц… Ах, Елена, Елена! все мои воздушные замки рушились… заглохла природа вокруг мрачных развалин… а эти развалины были мои надежды! Давно ли создавал я все это великолепие в мыслях своих? Если бы хоть память погибла о том, что тут было, если бы и она обросла плющом! Тут на коре пихты вырезано мое и ее имя вместе – они разрастаются нераздельно… На это имеет право только взаимность – срезать их!
Домой еду я – тороплюсь к жене… Как страшно это имя, когда нет при том мысли: «Она ждет меня! Сердце ее болит в разлуке со мною!»
IXВот открылась Москва в отдалении. Страшно было мне на нее смотреть!
Вот направо и налево шум – нет ни к чему внимания ни в душе, ни в чувствах!
Вот дом мой – толпа людей выбежала навстречу, провожает меня – нет ни к кому внимания ни в душе, ни в чувствах!
Я вбежал в свою комнату, сбросил с себя дорожное платье, сел, задумался; голова припала на руку…
– Что с тобою, мой друг? – раздалось подле меня.
То был тихий голос Елены; она припала ко мне на плечо и повторила вопрос свой.
– Здравствуй, Елена! – сказал я, боясь взглянуть на нее и не смея обнять ее.
Попечительно ухаживала Елена за мной. Она думала, что я болен, что меня разбила дорога.
«Как милы, радушны ее попечения! – думал я. – Если бы к участию жены придать участие любви! О, счастие мое было бы неземное! Но она не виновата: не меня избирала она для своего счастия!.. И она – страдалец на земле!»
Задумчив, молчалив стал я, не смел ласкать Елены, не смел называть ее своею – и моя ли она была? Имя мужа не дает права на чувства, и я не дерзал им пользоваться, не вынуждал не принадлежащего мне.
Мое обхождение невольно было почтительно с нею; я даже избегал быть вместе с Еленой.
Однажды случайно я вошел в ее комнату; она торопливо отерла слезы.
«Она плачет по нем! – подумал я. – Как свежо всегда воспоминание несчастной любви!»
Не желая нарушить ее горя… о! я испытал, как сладки минуты слез!., я хотел выйти.
– Друг мой, – сказала она, – сядь подле меня. Трепет пробежал по мне от слов, произнесенных с такой нежностью, какой никогда я не слыхивал.
Повинуясь Елене, я сел подле нее. Она взяла меня за руку.
– Ты совсем переменился с тех пор, как был у брата, – сказала она, приклоняясь к моему плечу.
– Нисколько, – отвечал я, не зная, что отвечать, – Нет! ты переменился, ты переменился ко мне… Ты меня не любишь! – продолжала она тихим голосом, смотря мне в глаза взорами, на которых навертывались слезы.
Какой страшный вопрос для того, кто любит! Я не знал, что говорить мне. Как было решиться сказать, что я знаю ее тайну? К чему ж ей любовь моя, если она любит другого? Неужели это притворство?
Я хотел скрыть от Елены и свое смущение, и ее собственную тайну.
Она снова взглянула на меня и, вскочив с места, принесла младенца – моего сына.
– За что ты так равнодушен к его матери? – произнесла она сквозь слезы.
Я схватил младенца и заплакал.
Елена побледнела, затряслась, припала на диван, закрыла лицо платком и – ни слова! Она поняла все.
– Елена! – вскричал я, взяв ее за руку.
– Я ни в чем не виновата перед тобою, – произнесла она наконец.
– Елена, – повторил я, – мы оба не виноваты! Судьба соединила нас… Если бы я знал… что сердце твое не свободно…
– Постой, не говори, – сказала она, схватив меня за руку. – Дай мне прийти в себя… я тебе все скажу… я виновата пред тобою… я скрывала…
Слова ее прервались. Я молчал, хотел встать, чтобы сделать несколько шагов по комнате, не зная, чем утишить волнение крови. Елена удержала меня.
– Не оставляй меня… выслушай признание, – сказала она. – Я вижу – ты знаешь, что я любила… Отец мой сам, может быть, внушал в меня любовь к воспитаннику своему; отец мой желал выдать меня за него замуж… Но он сам отказался от меня… Это меня убило сначала. Долго не могла я изгнать из себя привязанности, но, уже замужем за тобою, я опомнилась; любовь твоя ко мне изгнала даже воспоминание… Я хотела сказать тебе, оправдать себя за равнодушие, с которым принимала твои ласки, но я боялась, медлила – и это обратилось в новую задумчивость во мне, и ты сам стал ко мне равнодушнее. Я плакала втайне, любила тебя и не смела показать того – о, я тебя любила!.. Неопытное мое сердце могло только безумно грустить по человеке, который сам забыл меня, но, согласись же, могла ли остаться во мне хоть искра любви к тому, кто изменил?
– Елена, Елена! а если он не изменил тебе? Если его обманули?
Елена остановила на мне взор свой с недоумением, и я стал рассказывать ей поступок Мемнона и встречу мою с Вранковичем.
Когда я повторял собственные слова Вранковича: «Пий руйно вино за здравье моей сестрицы Лильяны! Была у меня сестра, да не стало!» – «Так называл меня Радой», – сказала Елена, припадая головою на грудь мою.
Когда я сказал: «не насиловать сердца; над сердцем две воли – своя да Божья», я чувствовал пылающее дыхание Елены и видел на глазах ее крупные слезы.
– Ты жалеешь Радоя? – спросила она меня, когда я кончил рассказ.
– О, я жалею его, я люблю его! – отвечал я. – Я был бы счастливее… но я не виноват… Судьба лишила нас всех троих счастья!..
– О, нет, друг мой! то воля провидения: оно премудро, – сказала Елена голосом ангела-утешителя. – Мы должны его благодарить; по воле его я твоя, и все во мне твое. Не сам ли Радой сказал, что над сердцем две воли: своя да Божья? Бог заботится о нашем счастии, и мы должны любить то, что он нам дает. Мое счастие все в тебе было предназначено. Почему знать, может быть, и Радой гораздо счастливее будет с другою? Он не поверил бы так легко словам Мемнона…
– Елена! это доказывает только его доверчивость к людям: мог ли он думать, что брат твой скажет ему неправду?.. Мемнон так ужасно обманулся сам!.. Он думал только о моем счастии… о счастии друга.
– Нет, нет! Радой приехал бы сам!.. Но… все равно: я отказалась даже от воспоминаний об нем с минуты получения его письма… А потом я стала любить, сперва свой долг, а наконец… тебя только люблю!
Елена держала мою руку и смотрела в глаза мне, как будто ожидая приговора ее сердцу.
Я сжал ее в объятиях, и никогда столько счастия не ожидал я от своей будущности! Радой был общим, невидимым нашим другом. Мы часто говорили об нем, почти каждый день спрашивали друг друга: «Где-то теперь добрый наш Радой? как-то он поживает?» Я писал к Мемнону, уговаривал его приехать к нам хоть на несколько дней; он не отвечал… Судьба его мучит меня, но есть ли средства изменить ее?»
Здесь кончилась рукопись. Но вот какие странные обстоятельства: перечитывая ее, уже переписанную для издания в свет, я точно так же, как в первый раз в Варне, задумался: «Журнал она чьей-нибудь жизни или просто журнальная повесть, во всем смысле этого слова?.. Вранкович… Кто ж этот Радой Вранкович, который один только так жив в повести, что хочется на него хоть взглянуть? Вранкович!.. Странно! фамилия как будто знакомая… Нет! – то Бранкович… Но какое-то сходство… в темной памяти». Послушайте…
Я стоял в то время на левом берегу реки Прута, против Скулянского карантина, когда на молдавском берегу происходила картина ужасная. Вся равнина была покрыта бегущим из Молдавии народом от войск турецких, которые преследовали последний отряд разбитой этерии Ипсиланти. Вся эта толпа – в колясках, в каруцах, верхом, пешком с страхом, говором и шумом теснилась к переправе на нашу сторону. Пыль стояла тучей по дорого из Ясс.