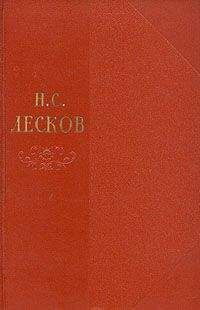Николай Лесков - Смех и горе
Кое-как припомнил вчерашний загул и начинаю думать:
«А хорошо ли это? А что сэр Чаннинг-то пишет? Ну, дядя, уж я вам за то вычитаю канон, что вы меня опоили».
И с этим, знаете, встаю… А где же дядя? А его и след простыл.
Звоню.
Входит лакей.
– Который час? – любопытствую.
– Восьмой-с, – говорит.
– Стало быть, еще не рассветало?
– Нет-с, уж это, – говорит, – опять смерклось.
Представьте себе, это я, значит, почти сутки проспал.
Стыдно ужасно пред лакеем! Что же это такое – народу проповедуем о трезвости, а сами…
Достойный пример!
– Дайте, – говорю, – поскорее мне счет.
– Да счет, – отвечает, – еще вчера-с этот господин заплатили.
– Какой господин?
– А что с вами-то был.
– Да он где же теперь?
– А они, – говорит, – еще вчера ушли-с. Заплатили-с, спросили бумаги, что-то тут вам написали и ушли.
– Скорей давайте мне огня и эту бумагу.
Человек исполнил мою просьбу и я, поддерживая одною рукою больную голову, а другою лист серой бумаги, прочел:
«Не сердись, что я тебя подпоил. Дело опасное. Я не хочу, чтобы и тебе что-нибудь досталось, а это неминуемо, если ты будешь знать, где я. Пожалуйста, иди ко мне на квартиру и жди от меня известий».
Можете себе представить этакой сюрприз, да еще на больную голову!
Глава восемьдесят девятая
Прихожу я на дядину квартиру, – все в порядке, но человек в большом затруднении, что дядя не ночевал дома и до сих пор его нет.
– А два офицера, – это, – любопытствую, – не приходили?
– Как же-с, – говорит, – приходили: они и утром два раза приходили, и в пять часов вечера были, и сейчас опять только вышли, и снова обещали часов в одиннадцать быть.
– Тьфу ты, что за пропасть такая!
С досады и с немочи вчерашнего кутежа я ткнулся в мягкий диван и ну спать… и спал, спал, спал, перевидав во сне живыми всех покойников, и Нестора Кукольника, и Глинку, и Григорьева, и Панаева, и целую Русь деревенских попадей, и – вдруг слышу: дзынь-дзынь, брязь-брязь…
– Встаньте-с, – говорит мне дядин слуга, – отбою ведь нет, – вот уже и нынче третий раз приходят. «Дядюшки, говорят, нет, так хоть племянника побуди».
– Вот те и раз! Господи, да я-то им на что?
– А уж не могу доложить, но только спросили, сочинитель вы или нет?
– Ну, а ты же, мол, что ответил?
– Я так, – говорит, – и ответил, что вы сочинитель, и вот они вас ждут.
– Отцы мои небесные! да что же это за наказание такое? – вопросил я, возведя глаза мои к милосердному небу. – Ко мне-то что же за дело? Я-то что же такое сочинил?.. Меня только всю мою жизнь ругают и уже давно доказали и мою отсталость, и неспособность, и даже мою литературную… бесчестность… Да, так, так: нечего конфузиться – именно бесчестность. Гриша, – говорю, – голубчик мой: поищи там на полках хороших газет, где меня ругают, вынеси этим господам и скажи, что они не туда попали.
Лакей Гриша с малороссийской флегмою направился к полкам, а я уже было хотел уползти и удрать черным ходом, как вдруг эти-то канальские черные двери приотворились и из-за них высунулась белокурая головка с усиками, и нежный голосок самою музыкальною нотою прозвенел:
– Excusez-moi, je ne suis pas venu…[20] с того хода, где следовало, но нам так долго не удавалось к вам проникнуть…
– Ничего-с, – отвечаю, – сделайте милость, не извиняйтесь.
– Нет, не извиняться нельзя, но знаете… как быть: служба… и не рад, да готов.
– Конечно, – говорю, – конечно. Чем, однако, прикажете служить?
– Вот мой товарищ, – позвольте вам представить, поручик, – он тут назвал какую-то фамилию и вытянул из-за себя здорового купидона с красным лицом и русыми котелками на висках.
Я поклонился отрекомендованному мне гостю, который при этом поправил ус и портупею и положительно крякнул, как бы заявил этим, что он человек не робкого десятка.
«Да мне-то, – думаю, – что такое до вас? По мне, вы какие ни будьте, я вас и знать не хочу», и сейчас же сам крякнул и объявил им, что я здесь, не хозяин и что хозяина самого, дяди моего, нету дома.
– Как же это так? Вы нам скажите, пожалуйста, где он? Vous n'y perdrez rien,[21] между тем как нам это очень нужно, – говорил, семеня, юнейший гость мой, меж тем как старейший строго молчал, опираясь на стол рукою в белой замшевой перчатке.
– Нет, вы, бога ради, скажите, где ваш дядюшка? мы его разыщем, – приставал младший.
– Решительно, – говорю, – не знаю; что хотите – не знаю. Сам даже этим интересуюсь, но все тщетно.
– Это изумительно.
– А однако это так.
– Ну, в таком разе позвольте за вас взяться.
Я смешался.
– Что? что такое? как за меня взяться?
– А вот вы сейчас с этим познакомитесь, – отвечал гость, вытаскивая из кармана и предлагая мне конверт с большою печатью.
– Прошу, – говорит, – вскрыть.
Нечего делать: принимаю трепещущими руками этот конверт; вскрываю его; вытаскиваю оттуда лист веленевой бумаги, на котором картиннейшим писарским почерком написано… «К ней». Да-с: ни более ни менее как стихотворение, озаглавленное «К ней».
Глава девяностая
Протер глаза, еще раз взглянул – все то же самое, и вверху надпись «К ней»…
Я обиделся и рассердился и, не соображая уже никаких последствий, спросил с досадою: «Это еще что такое?»
– А это, – отвечает мне младший из моих гостей, – на сих днях в балете бенефис одной танцовщицы, которая… с ней очень многие важные лица знакомы, потому что она не только танцует, но… elle visite les pauvres[22] и…
– Но, позвольте, – возражаю, – что же мне до нее за дело?
– Совершенно верно, совершенно верно: вам нет до нее никакого дела, и она ни для кого никакого прямого значения не имеет, но… les jeunes gens font foule chez elle…[23] и стараются услугами… совершенно невинными… невинными ей услугами доставить удовольствие одному… очень, очень почтенному и влиятельному лицу. Он человек уже, конечно, не первой молодости, и в эти годы, знаете, женщина для человека много значит и легко приобретает над ним влияние. Согласитесь, что все это верно?
– Отлично-с, – говорю, – но что же мне до этого за дело?
Гость обиделся.
– Я, – говорит, – и не настаиваю, что вам есть до этого дело, но я прошу у вас помощи и совета.
– А, это, мол, другое совсем дело, – и, успокоенный, прошу гостей садиться.
Офицеры поблагодарили, присели и младший опять начал.
– Генерал Постельников, именем которого мы решились действовать, совсем об этом не знает. Да-с: он нас сюда не посылал, это мы сами, потому что, встретив в списках фамилию вашего дядюшки и зная, что ваша семья такая литературная…
Ну, уж тут я, видя, что мой гость затрудняется и не знает, как ему выпутаться, не стал ему помогать никакими возражениями, а предоставил все собственному его уму и красноречию – пусть, мол, как знает, не спеша, изъяснится. Он, бедняк, и изъяснялся, и попотел-таки, попотел, пока одолел мою беспонятливость, и зато во всех подробностях открылся, что он желает быть замеченным генералом Постельниковым и потому хочет преподнести его танцовщице букет и стихи, но что стихи у него вышли очень плохи и он просит их поправить.
«Так вот, – думаю, – чем весь этот переполох объясняется! Бедный мой дядя: за что ты гибнешь?» И с этим я вдруг расхрабрился, кричу: «человек, чаю нам!»
– Господа, прошу вас закурить сигары, а я сейчас… – и действительно я в ту же минуту присел и поправил, и даже уж сам не знаю, как поправил, офицерское стихотворение «К ней» и пожелал автору понравиться балетной фее и ее покровителю.
– Ах да! я ценю вашу дружбу, – отвечал со вздохом мой гость, – ценю и ваше доброе желание, но наш генерал, каш бедный добрый генерал… он теперь в таком положении, что il s'emeut d'un rien,[24] и нельзя поручиться, в каком состоянии он будет в этот момент.
Я полюбопытствовал, что же такое отравляет драгоценное спокойствие генерала Постельникова.
– Ах, это то же самое-с, я думаю, что отравляет нынче спокойствие многих и многих людей в нашем отечестве… Это, в самом деле, иначе даже не может и быть для истинных европейцев: я молод, я еще, можно сказать, незначителен и не чувствую всего этого так близко. Но… но и я… je déplore les maux de ma patrie.[25] Но он, наш генерал, он, который помнит все это в ином виде, когда эта «дурная болезнь», как мы это называем, еще робко кралась в Россию под контрабандными знаменами Герцена, но Герцен, помилуйте… Герцена только забили; он был заеден средою и стал резок, но он все-таки был человек просвещенный и остроумный, – возьмите хоть одни его клички «трехполенный», трехполенный, ведь это все острота ума, а теперь…
«Господи! что, – думаю, – за несчастье: еще какой такой Филимон угрожает моей робкой родине?» Но оказывается, что этот новый злополучный Филимон этого нового, столь прекрасного и либерального времени есть разыскиваемый в зародыше Русский дух, или, на бонтонном языке современного бонтона, «дурная болезнь» нашего времени, для запугивания которого ее соединяют в одну семью со всеми семью язвами Египта.