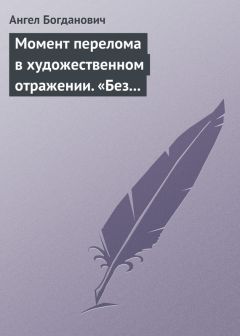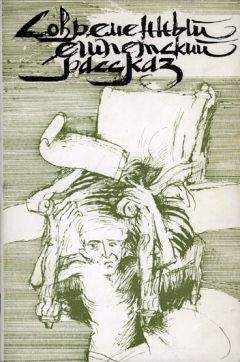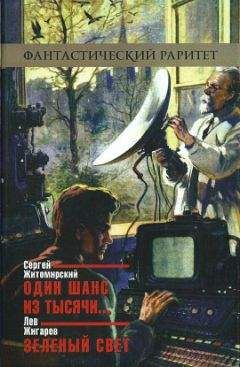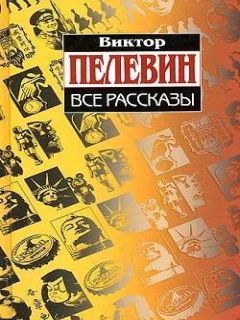Николай Бердяев - Судьба России (сборник)
Христианство есть сплошное противоречие. И христианское отношение к войне роковым образом противоречиво. Христианская война невозможна, как невозможно христианское государство, христианское насилие и убийство. Но весь ужас жизни изживается христианином, как крест и искупление вины. Война есть вина, но она также есть и искупление вины. В ней неправедная, грешная, злая жизнь возносится на крест.
III
Мы все виноваты в войне, все ответственны за нее и не можем уйти от круговой поруки. Зло, живущее в каждом из нас, выявляется в войне, и ни для кого из нас война не есть что-то внешнее, от чего можно отвернуться. Необходимо взять на себя ответственность до конца. И мы постоянно ошибаемся, думая, что снимаем с себя ответственность или не принимаем ее вовсе. Нельзя грубо внешне понимать участие в войне и ответственность за нее. Мы все так или иначе участвуем в войне. Уже тем, что я принимаю государство, принимаю национальность, чувствую всенародную круговую поруку, хочу победы русским, я – участвую в войне и несу за нее ответственность. Когда я желаю победы русской армии, я духовно убиваю и беру на себя ответственность за убийство, принимаю вину. Низко было бы возложить на других убийство, которое нужно и мне, и делать вид перед самим собой, что в этом убийстве я не участвую. Те, которые едят мясо, участвуют в убийстве животных и обязаны сознавать ответственность за это убийство. Лицемерно делать вид, что мы сами никогда не насилуем и не убиваем и не способны насиловать и убивать, что другие несут за это ответственность. Каждый из нас пользуется полицией, нуждается в ней, и лицемерно делать вид, что полиция не для меня. Всякий искренно желающий вытеснить немцев из пределов России духовно убивает не менее, чем солдаты, которые идут в штыковую атаку. Убийство – не физическое, а нравственное явление, и оно прежде всего совершается духовно. Стреляющий и колющий солдат менее ответствен за убийство, чем тот, в ком есть руководящая воля к победе над врагом, непосредственно не наносящая физического удара. Нравственно предосудительно желать быть вполне чистым и свободным от вины насилия и убийства и в то же время желать для себя, для своих близких, для своей родины того, что покупается насилием и убийством. Есть искупление в самом принятии на себя вины. Виновность бывает нравственно выше чистоты. Это – нравственный парадокс, который следует глубоко продумать. Исключительное стремление к собственной чистоте, к охранению своих белых одежд не есть высшее нравственное состояние. Нравственно выше – возложить на себя ответственность за ближних, приняв общую вину. Я думаю, что в основе всей культуры лежит та же вина, что и в основе войны, ибо вся она в насилии рождается и развивается. Но зло, творимое культурой, как и зло, творимое войной, – вторично, а не первично, оно – ответ на зло изначальное, на тьму, обнимающую первооснову жизни.
IV
К войне невозможно подходить доктринерски-рационалистически. Доктринерский абсолютизм в оценке жизни всегда безжизнен, насильствен, всегда есть фарисейское превозношение субботы над человеком. Но человек выше субботы, и суббота не должна быть абсолютным принципом жизни. Возможна и желанна лишь жизненно-пластическая мораль, для которой все в мире есть индивидуально-творческая задача. К сфере относительного не применимо абсолютное. В исторически-телесном мире нет ничего абсолютного. Возможна абсолютная жизнь, но невозможно применить абсолютное к жизни относительной. Абсолютная жизнь есть жизнь в любви. В абсолютной жизни не может быть войны, насилия и убийства. Убийство, насилие, война есть знак жизни относительной, исторически-телесной, не божественной. В историческом теле, в материальной ограниченности невозможна абсолютная божественная жизнь. Мы живем в насилии, поскольку живем в физическом теле. Законы материального мира – законы насилия. Абсолютное отрицание насилия и войны возможно лишь как явление глубоко индивидуальное, а не как норма и закон. Это предполагает одухотворение, побеждающее «мир» и его родовой закон, просветление тела человеческого нездешним светом. Но к жизни в материи этого мира нельзя применить абсолютного, как закон и норму. Евангелие не есть закон жизни. Абсолютное не применяется, а достигается. Абсолютная жизнь есть благодатная жизнь, а не жизнь, исполняющая закон и норму. Законническое применение абсолютного к относительному и есть субботничество, заклейменное Христом.
Абсолютная истина о непротивлении злу насилием не есть закон жизни в этом хаотическом и темном мире, погруженном в материальную относительность, внутренно проникнутом разделением и враждой. Пусть этот мир перейдет к абсолютной жизни в любви. Желать можно только этого и только к этому можно стремиться. Совершается это таинственно и незримо, как незримо приходит Царство Божие. Но не имеет никакого внутреннего смысла желать внешнего мира и отрицать всякое внешнее насилие, оставляя внутренно мир в прежнем хаосе, тьме, злобе и вражде. Это ничего не значит. Навязывание абсолютного закона относительной жизни есть доктринерство, лишенное всякого внутреннего смысла. Желать можно лишь внутреннего здоровья, а не внешнего обличья здоровья при внутренней болезни. Нельзя достаточно сильно подчеркивать, что абсолютная Христова любовь есть новая благодатная жизнь духа, а не закон для относительной материальной жизни. Вот почему бесконечно сложна проблема отношения христианства к войне.
Войну можно принять лишь трагически-страдальчески. Отношение к войне может быть лишь антиномическое. Это – изживание внутренней тьмы мировой жизни, внутреннего зла, принятие вины и искупления. Благодушное, оптимистическое, исключительно радостное отношение к войне – недопустимо и безнравственно. Мы войну и принимаем и отвергаем. Мы принимаем войну во имя ее отвержения. Милитаризм и пасифизм – одинаковая ложь. И там, и здесь – внешнее отношение к жизни. Принятие войны есть принятие трагического ужаса жизни. И если в войне есть озверение и потеря человеческого облика, то есть в ней и великая любовь, преломленная во тьме.
О жестокости и боли
I
Много говорят о жестокости наших дней, нашей эпохи, о невозможности вынести количество боли, выпадающее на долю нашего поколения. Многим даже представляется время наше более жестоким, чем былые исторические времена. Это – иллюзия и самообман. Мы слишком мало восприимчивы к жестокости жизни, вообще, слишком привыкли к болям обыденной жизни. И нужны исключительные внешние проявления жестокости, чтобы ранить нашу душу и поразить наше воображение. До войны и ее ужасов мы каждый день совершали много жестокого и претерпевали много жестоких болей. Процесс всякой жизни – жесток и болезнен. Но восприимчивость наша притупилась, кожа наша стала толстой. И мы ужасаемся жестокостям войны, в нашем сострадательном пафосе есть доля бессознательного лицемерия. Рост жизни всегда сопровождается болью. Когда мы творим жизнь, мы совершаем много жестокостей и много жестокостей совершается над нами. Мы убиваем не только тогда, когда колем штыком и стреляем из ружья. В сущности тот, кто принимает мировой процесс, историческое развитие, тем самым принимает жестокость и боль и оправдывает их. Есть жестокость и болезненность во всяком процессе развития, во всяком выходе из состояния покоя и бездвижности, во всяком восхождении. Героическое начало – жестокое начало. Само движение уже болезненно. Болезнен самый элементарный механический толчок, порождающий движение. И так до самых высших проявлений духовной жизни. И кто хочет свершения исторических судеб человечества, его развития ввысь, тот обязан принять жестокость и боль, заковать себя в броню. Тот же, кто не хочет никакой жестокости и боли, – не хочет самого возникновения мира и мирового процесса, движения и развития, хочет, чтоб бытие осталось в состоянии первоначальной бездвижимости и покоя, чтобы ничто не возникало. Таков неотвратимый метафизический вывод.
II
В исторической жизни всякое движение вперед начинается с нарушения установившейся системы приспособления и равновесия, с всегда мучительного выхода из состояния относительной гармонии. Болезненно трудно расставаться с привычным строем жизни, с тем, что казалось уже органически вечным. Но необходимо пройти через момент разрыва и дисгармонии. И это всегда болезненно. Но эту болезненность, эту жестокость начала всякого движения должен принять всякий, кто не хочет вечного застоя и покоя, кто ищет развития и новой жизни. Жесток и болезнен переход от патриархального строя жизни к иному, более сложному строю, в котором подымается личное начало, до того времени дремавшее. Болезненно и жестоко всякое нарушение первоначальной целости и органичности. Просыпающаяся, подымающаяся и сознающая себя личность всегда жестока в отношении к окружающей ее среде и господствующей в ней системе приспособления, она не может не причинять боли. Как много жестокости и боли бывает при всяком разрыве личности с семьей, которая давит своей системой приспособления! Как много жестокости и боли бывает во всякой борьбе за ценность, которая ставится выше блага! Болезненна и мучительна замена натурального хозяйства денежным, болезненно и мучительно разложение общины, разложение старого строя семьи, болезнен и мучителен всякий разрыв со старыми устоями жизни, со старыми идеями, болезнен и мучителен всякий духовный и идейный кризис. Безболезненно оставаться в покое и бездвижности. С точки зрения сострадания к людям и человеческим поколениям, боязни боли и жестокости, лучше оставаться в старой системе приспособления, ничего не искать, ни за какие ценности не бороться. Жестокость сопровождает всякое зачинающееся движение, всякий разрыв, предшествующий творчеству.