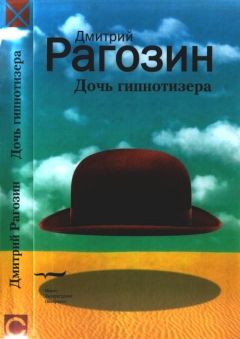Дмитрий Рагозин - Дочь гипнотизера
Хромов пробежал глазами глянцевую картонку меню. Выбрал рыбный суп, куриную лодыжку и яблочный сок. Официантка, с высокой грудью и прелестно-невыразительным лицом, удалилась.
В ожидании блюд Хромов положил перед собой записную книжку и карандаш. Задумался, глядя на украшающий стол подсвечник с двумя свечами. На мгновение представилась пустая комната, солнце, палящее через закрытое окно, пыль на столе, на стульях... Карандаш пошел выделывать коленца. Официантка: сандалии на босу ногу, черный бант в волосах, натужная походка. Поступь неоперившейся богини, проходящей через зеркало. Положение стоя. Ни тени улыбки, покорная любезность. Стертый лак на ногтях. Лицо с восточным уклоном, отсутствие оного. Как в песочных часах, ее время движется сверху вниз. Прекрасная подавальщица. Я бы хотел быть твоим бюстгальтером, торопился записать Хромов. Солнце входит с черными мыслями. Запахло Одиссеей. Она внесла расчетливую ясность в путаницу его желаний. Кровожадный Пьеро. Маленький припадок любви. Трогательное причинное место. Супружеская пара, пойманная с поличным. Чета Скотининых. Перечитать Фонвизина. Что ни день, то битва гигантов. Обшивка. Жизнь так себе, с женщиной в придачу. Скверная история, рассказанная за обедом. Одежда: луковая шелуха, овечья шерсть, медовый сот, сухие листья, лоскутья, лохмотья. Издержки воздержания, счастье сводится к противоположному полу, или, как еще недавно говорили, к игре означающих. И что в этом плохого? Продолжение следует - присказка эроса. Архив. Прядь волос в конверте. Лампа, полки, пыль. Решетки на окнах - от птиц. Улица, машины, светофор. Лекарство: головная боль. Веселая вечеринка, много ног, мало лиц. Мыло, спички. Реклама бульонных кубиков. Сколько времени потрачено зря. Антология женской прозы. Аллигатор. Лектор в синих очках. Беременна! Серьезные намерения. Черное пальто с серым воротником...
Хромов почувствовал, что официантка стоит у него за спиной и читает то, что выходит из-под карандаша. Он с досадой захлопнул книжку, освободив место для тарелки с бульоном, в котором плавали бледные кружки лука. Вслед за супом на столе появился жареный судак и стакан апельсинового сока.
Обслужив Хромова, девушка села за соседний неубранный стол, сбросила сандалии и вытянула длинные, ворсистые в икрах ноги. Машинально выпила оставшееся в рюмке вино. Достала из корсажа сигарету и спички, чиркнула, закурила. Голубая струйка витиевато потекла в сторону лилового горного кряжа. Хромов предположил, что этой девушки не существует вне поля его зрения. Он должен смотреть на нее, иначе от нее не останется и следа. Сторонний наблюдатель, он наполнял ее жизнью. Она была порождением его взгляда...
Хлебнув супа, Хромов принялся за рыбу, скрупулезно вытягивая прозрачные кости. Иногда это доставляет удовольствие, иногда наводит на мысль (о превратностях, о раболепной жизни, о венценосной смерти, о глубоководных святилищах и т.п.).
Обедавшие за дальним столиком супруги привычно вздорили. Дочь, воспользовавшись свободой, попыталась пролезть между балясин. Молодой отец, не прерывая сердитой фразы, вскочил и втянул ее обратно на террасу. Выждав некоторое время, девочка вновь скользнула со стула, нахлобучила соломенную шляпу и пошла бродить по террасе вокруг пустых столов и стульев. Дойдя до Хромова, глубокомысленно возившегося с рыбой, она посмотрела на него большими ясными глазами и сказала:
"Какашка!"
Хромов замер. Вилка, остановившись, удержала на весу окаменевшую руку. Хромов был уверен, что маленькая, очень маленькая девочка не имела намерения нанести ему оскорбление. Возможно, она хотела сообщить ему что-то важное - на своем языке. Но что сказать в ответ? А молчание только усугубляло постыдную ситуацию, как если бы он с готовностью принял слово на свой счет. Отшутиться по обыкновению (о чем ниже): "Лучше быть произведением кишечного тракта, чем отпрыском мочеполовой системы!" - он себе позволить не мог, поскольку любая его острота перед невинным лицом детской шалости прозвучала бы слишком грубо и выражала бы в большей степени обиду, нежели игру ума. Что бы он ни предпринял, его ждало поражение: от самого себя опорожнение. Вот - началось. Нет, лучше всего было бы, наверное, скорчить страшную рожу: оттянуть пальцами веки и рот, свесить язык, выпучить глаза, напугав малышку до смерти. Но эта идея пришла к Хромову слишком поздно, когда девочка, точно исполнив данное ей свыше поручение, маленький божественный вестник, скачком развернувшись, побежала к столику, за которым сидели ее родители.
Продолжив механически жевать, Хромов положил вилку на край тарелки и, вытирая салфеткой горячий пот с холодного лба, смущенно взглянул в сторону официантки, но та, к счастью, кажется, ничего не слышала. Кто-то прикрикнул на нее из зала. Нехотя поднявшись и не выпуская сигареты изо рта, она составила на поднос грязную посуду и удалилась, лениво виляя.
Вместе с сытостью нашла расслабленность, тоска. И море, и маленькая девочка, и записи в книжке стали ненужными, тяжелыми.
Дотянувшись, Хромов взял забытые официанткой спички и зажег стоявшие перед ним свечи. Язычки пламени, ликуя, растворились в солнечном свете. Струйки воска побежали вниз. Пустая комната, думал Хромов, глядя на невидимое пламя, пустая комната...
6
Не упустить минуты, когда день, неловко повернувшись, грозит стать дурным, несносным, а такая минута, вялая и дремотная, рано или поздно обязательно выпадает, от нее не отделаться наплевательством, наоборот, важно уловить ее, сосредоточиться и усилием воли вернуть день в здоровое положение, не допускающее превратных толкований, тогда уже можно расслабиться и жить до самой ночи беззаботно, глупо, жизнь сама определит, что ей нужно в первую очередь, что во вторую, лишь бы время шло своим чередом, без фокусов и не в обратную сторону, как это часто случается с теми, кто берет на себя слишком много, но не хочет ни за что отвечать.
Такая минута застала Хромова, когда после обеда, прохаживаясь бесцельно по пыльным, собирающим следы людей и машин улицам, вдоль заборов, декорированных подсолнухами, он оказался возле дома Успенского. Разумеется, он вспомнил услышанный утром в темном буфете разговор двух мошенников и невольно замедлил шаг. Серые перчатки, желтые чулки... Калитка была слегка приоткрыта. Из-за невысокого забора хорошо был виден длинный дом в один этаж, осененный деревьями и окруженный цветниками.
Аврора, Аврора... Неужели не ослышался? В своем сомнении Хромов был неискрен. Чем Успенский заслужил верность? Детьми? Достатком? Лестью? Глупо... И вообще, разве верность не пережиток, препятствующий событиям совершаться, принуждающий натуры скучать и линять, теряя своеобразие не только характера, бог с ним, но и тела? Не должны ли мы жить так, чтобы жизнь постоянно, ежедневно меняла очертание, преображалась, пересаживалась со стула в кресло, с кресла на диван, обложившись подушками, вышитыми персонажами из басен?..
Хромов вспомнил о супруге, спящей в душном номере дешевой гостиницы, и мысль послушно сменила направление. Верность, решил он, глядя через забор на притихший домик, слаще, нежели измена. Соблюдая взятые на себя обязательства в отношении женщины, допустившей меня до своей святая святых, я только следую правилам желания, нарушение которых ведет к тоске и бессилию. Верность главное условие противостояния, делающего желание возможным.
Итак, если верность себе, избранному пути, это недостаток, примета деградации, то верность другой - залог развития личности, которая пишет и переписывает. И все же, стоя на солнцепеке у низкого забора, Хромов вынужден был признать, что проделка Авроры, всегда державшейся от него на равнодушном расстоянии, застигла его мораль врасплох. Обделила чем-то важным, но непонятным. Учительница написала мелом на черной доске длинную формулу и вышла из классной комнаты. Как ни совестно признать, услышав странную новость, он негаданно угодил в подчинение Авроры, разделенной на икс и игрек. Благодаря своим новым сподручным, она вдруг завладела его чувствами. А если так, то не распространяются ли выстраданные правила верности отныне и на нее? Неужто придется хранить верность Авроре, даже еще не добившись ее снисхождения?
Хромов улыбнулся, но продолжал стоять у забора. Как вкопанный. Вот-вот пущу корни... Дом казался всего лишь сочетанием крупных солнечных пятен и темного узора теней. Хромов видел крыльцо с тонкими, опутанными вьюнком перильцами, прислоненную к стене метлу с длинной рукоятью, жестяную лейку возле выложенной кирпичом арки, ведущей в подвал, широкие окна, прикрытые кисейными занавесками, висящие на цепях качели, глиняную миску на деревянном столе под старой яблоней... Сколько он ни вглядывался, ни вслушивался, ничего подозрительного. Тишиной пользовались монотонное жужжание и прерывистый стрекот. Сухой лист упал с ветки и замер на доске качелей. Ни звука, ни движения в доме, во внешности которого, несмотря на обступившую его глухую тишину, не было ничего мрачного, затаенного, напротив, какая-то простодушная открытость, доверчивость: ничего темного за душой. В жарком сухом воздухе парил смешанный аромат, тянувшийся с цветников. Душистый лиловый зев гелиотропа, пряная рябь резеды, тонкий душок нарцисса, красно-желтая одышка настурций, понюшки гиацинта...