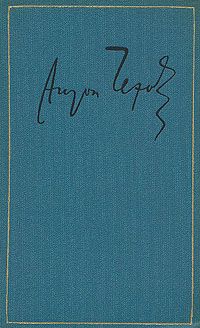Антон Чехов - Том 18. Гимназическое. Стихотворения. Коллективное
Облучков побледнел и нахмурился.
— Беру ее за… подбородочек… Краснеет… Разговорились… Такая наивная девчонка! В этих женщинах мне ужасно нравится наивность! Не признаю не наивных! Сажусь рядом с ней на диване… Не сопротивляется… Беру за талию… Хе, хе, хе… Хоррошенькая, дьявол!
Облучков замигал глазами и побагровел. Он, почтительный, робкий человек, почувствовал сильнейшее желание ударить по превосходительной лысине. Бедняга архивариус любил свою жену!
— Ммм… Взял ее за талию… В щечку.
— Врешь! — сказал ami.
— Клянусь! В… в щечку! Хе, хе, хе… Я, говорит, позволяю вам себя целовать, ваше превосходительство, только потому, что вы добрый… милый… И чмок меня в голову!
Облучков почувствовал, что у него подгибаются колени. Зубы его застучали от гнева.
— Чмок меня в голову!.. Я ее в грудочку… Хе, хе… И у этакого рыла, как Облучков, такая чудная женщина! Феномен! А? Горит! Пылает! В конце концов, попросила браслетку… Обещал ей… Хе, хе, хе… В субботу, вечером, Облучкова пошлю куда-нибудь… к черту, а сам к ней… Заранее предвкушаю… Хе, хе, хе…
Облучков начал задыхаться… Он ухватился одной рукой за сердце, а другой — за дверную ручку… Еще минута, и… он не вынесет!
— Ну, что ж? Было многоточие? — спросил ami.
— Ммм… как тебе сказать. Почти… Почти было… Когда я уже сжимал ее в своих объятиях и наши губы слились в поцелуй, вошел Облучков… Ну, разумеется… неловко же было! Помешал, скотина!
Облучков не вынес.
Дрожащий, забывший все на свете, жаждущий мести, рванул он за дверную ручку и влетел в комнату, залитую светом. В этой комнате, за зеленым столом сидели три старичка. Они курили сигары и масляными глазками посматривали друг на друга. Облучков подлетел к столу, сжал кулаки, забормотал… Старички подняли на него свои удивленные глаза…
— Что вам угодно? — спросил строгий голос. — Кто вам эээ… позволил эээ… молодой человек!
— Я… я… ваше превосходительство… — забормотал Облучков, по привычке преклоняя выю перед этими глазами и повелительным голосом.
— Что вам угодно-с? Вы подслушивали?
— Я… виноват, ваше превосходительство… Если бы я знал, я… не приходил бы домой… ваше превосходительство… Виноват… Не догадался… Простите… в субботу-с, я уйду.
Говорил это, а самому хотелось трахнуть по лоснящейся лысине!
Мачеха*
В большом прадедовском кресле сидит старушенция. Желто-серое, морщинистое лицо ее кисло, как раздавленный лимон, глаза смотрят в сторону угрюмо, подозрительно… Она беспокойно вертится и то и дело подносит к своему острому, птичьему носу флакон с нашатырным спиртом. Она не в духе.
Возле нее стоит молодой человек приятной наружности. Честь имею вам представить его: это — поэт, пасынок старушенции. Мачеха и пасынок беседуют.
— Я к вам по делу, мачеха, — говорит поэт. — Я написал роман… Вы приказали мне давать вам на прочтение все мои произведения. Извольте! Вот он!
— Хорошо, мы прочтем его… Но отчего у тебя лицо такое печальное? Тебе, значит, не нравится мое вмешательство в твои дела? Не нравится? Так вот ты какой?
— Я очень рад, мачеха… Что вы? Я и не думал…
Поэт надувается, морщится и всеми силами старается изобразить на своем лице улыбку.
— Я даже очень рад… Помилуйте… Нашего брата необходимо сдерживать…
— То-то… Ну, читай свою дрянь… Я послушаю.
Поэт медленно перелистывает рукопись, конфузливо кашляет и начинает читать:
«Было прелестное майское утро. Мой герой лежал на берегу моря, глядел на пенистые, болтливые волны и мыслил…»
— Стой, стой… — перебивает мачеха. — Зачеркни слово «мыслил».
— Почему же?
— А бог знает, о чем мыслил твой герой. Может быть, о таком, что…
— Но я ведь поясняю далее, мачеха!
— Ну, пока ты пояснишь, так до всего можно додуматься. Зачеркни!
Поэт зачеркивает слово «мыслил» и продолжает:
«…Возле него на песке лежал ящик с красками и полотно, натянутое на подрамник…»
— Стой, стой… Разве можно писать такие вещи? Зачеркни слово «полотно»!
— Почему же, мачеха?
— Разве это слово не напоминает тебе полотно железной дороги? А разве это не намек на железнодорожные беспорядки? А эти беспорядки имеют прямую связь с…
Поэт «полотно» заменяет словом «холст» и читает далее: «…У самой воды стоял его чичероне, молодой крестьянин…»
— Опять! — Мачеха мажет руками и сует острие своего носа в нашатырный спирт. — Опять! Для чего тут крестьянин? К чему? На что он тебе дался? Замени чем-нибудь другим!..
— Я заменю словом «мальчик».
— Нельзя. Если мальчик стоит утром у моря, то, значит, он не в школе. Это намек на отсутствие школ…
Поэт вытирает у себя на лбу пот, глубоко вздыхает и читает далее. Но чем дальше в лес, тем больше дров. Рукопись его постепенно покрывается черными полосками, крестами и пятнами. Она постепенно теряет свою белизну и делается черной. Зачеркиваются все слова, кроме некоторых междометий, числительных и некоторых наречий. Мачеха против союзов, потому что слово «союз» есть намек на незаконное сожительство и слияние сословий. Она отрицает местоимения третьего лица, потому что под словом «он» можно всё разуметь: и Ренана*, и Лассаля*, и «Московский телеграф»*, и Щедрина… Она не велит ставить запятые. Запятые, по ее мнению, есть намек.
— Ты зачем это в своей рукописи поля оставил? — говорит она. — Для чего? Поля… поля… Где поле, там неурожай… Отрежь ножницами!
Поэт кое-как дочитывает свой роман до конца.
«…Старшина присяжных заседателей, — оканчивает поэт, — произносит дрожащим голосом: „Нет, не виновны“. Публика аплодирует приговору».
Старушенция вскакивает. Глаза ее полны ужаса. Чепчик сполз в сторону и обнаружил плохенькие, старушечьи косички.
— Ты с ума сошел? Ты оправдываешь негодяев?!
— Да так же и следует! Ведь они не виноваты, мачеха!
— Не виноваты?! Да ты с ума сошел! За одно то, что они не слушаются старших, грубят товарищу прокурора и позволяют себе умничать на суде, их следует выпороть! Да разве ты не знаешь, что оправдательный приговор деморализует человека? Он портит! Он говорит, что преступления могут оставаться безнаказанными! Изволь заменить!
Поэт зачеркивает «нет, не виновны» и пишет:
«…Василия Кленского сослать в каторжные работы, в рудниках, без срока. Жену его, Марию, сослать в каторжные работы, на заводах, на 14 лет…»
Фразу: «публика аплодирует приговору» старуха не велит зачеркивать.
— Теперь твой роман годится, — говорит мачеха. — Можешь давать его читать кому угодно.
Поэт целует костлявую руку старушенции и уходит.
До нового пожара*
Редактор. Только теперь рисуете Бердичевский пожар?! Эка когда хватились! Вы бы еще через десять лет явились с этим рисунком.
Сотрудник. Гм. Черт возьми… Пропала работа, значит!
Редактор. Не печальтесь, впрочем! Мы отложим этот рисунок до нового пожара. Недолго ждать придется!
Моя семья*
Тесть: Емельян Сидорович, отставной гардемарин. Мал ростом, худ, морщинист, но внушителен. Рожден в Кронштадте. Говорит, что купался в океане. Будучи в Константинополе, видел султана. Со времен отставки ищет место управляющего домом или имением. Не любит беспорядков и вечно читает мне нотации за нечистоплотность. Встает в четыре часа и сам чистит себе сапоги. Ложится в восемь часов. Спит в гостиной. Вечером долго молится в моем кабинете, причем приказывает мне стоять и не курить. Искусства любит, но наук не признает. Ждет, что меня арестуют за то, что я читаю газеты. По праздникам будит меня к заутрене. В день ангела получает визитную карточку от друга детства, капитана 2-го ранга П. А. Дромадерова. Вечно трется в кухне около бочки с квасом. Часто плачет.
Теща: Глафира Кузьминична. Бабища шестидесяти лет, слезливое, богомольное, нравственное и вместе с тем в высшей степени ядовитое создание. Жалуется всем и каждому, что ее бог обидел зятем. Любительница цикорного кофе, сливок и рыбки. Мяса не ест: обет дала. Давно уже собирается умирать, но не умирает. Ежедневно ходит в гости. Хвастает, что ее старичок не употребляет горячих напитков. Сваха, дает деньги на проценты и скупает рухлядь. Меня величает «окаянным». Меня?! Я ли ее не кормлю? Я ли не выношу ее целодневных толков о том, что она чай без хлеба кушает? Я ли не даю ей денег на мазь Иванова, которой она по ночам натирает себе поясницу? Дрянь ты этакая!