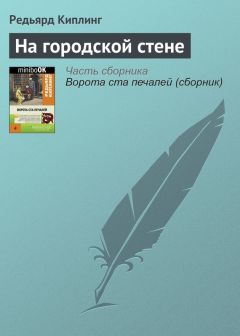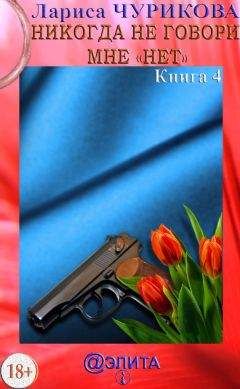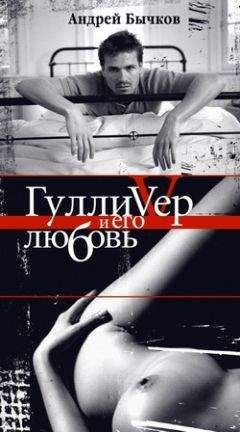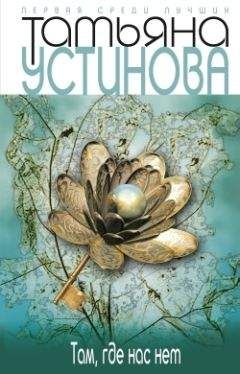Лариса Матрос - Литературные рецензии и обзоры
Во всех номерах "Арзамаса" помещено много портретов Пушкина, членов его семьи, друзей.Эти изображения, опубликованные в разных изданиях в отдельности, вероятно каждый из нас когда-то видел.Но собранные здесь все вместе, под обожкой, выполненной в стиле "старых добрых" времен, в окружении материалов посвященных жизни и творчеству Пушкинана, а так же местам, связанным с его именем, размещенные на прекрасной глянцевой бумаге, они являют какой-то особый эффект эмоционпльного воздействия. Глядя на портреты, любуешься не только красотой и достоинством запечатленных на них лиц, но и ощущешь, что , но и они смотрят на нас с благодарностью к тем, с чьей помощью они становятся нам ближе и понятней.
Каждый выпуск я листаю с волнением, так как объединяя вокруг себя тех, для кого слово на русском языке, в том числе поэзия Пушкина являются одной из составляющих первостепенных духовных потребностей, журнал словно материализует загадочное и знакомое со школьных лет слово "Арзамас", означаюшее литературный кружок, членом которого был молодой Пушкин.
У ПОБЕРЕЖЬЯ
Панорама No 728, март 22-28,1995
Передо мной литературный ежегодник из Филаделфии.На плотной белой обложке, по вертикали большими буквами написано: "Побережье". О том, какой смысл и концепцию вкладывали создатели журнала в название своего детища, можно гадать и гадать, но ясно одно- самим этим названием они призывают читателей к размышлениям о судьбах современной русскоязычной литературы, разбросанной по разным "берегам" общего океана русской культуры.
И вот, открывая обложку, я словно отправляюсь в путь по побережью, а для меня, одесситки, побережье - это берег с расположенными на нем обнаженными телами людей. Но ведь и здесь, на этом "Побережье" , передо мной обнаженные- но только не тела, а души. "Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души",- писал Владимир Высоцкий. Эти слова можно отнести к любому жанру литературы, ибо каждое печатное слово обнажает душу того, кем оно рождено и кому уже не принадлежит, обретя собственную жизнь, тесно связанную с теми, кем будет воспринято. Так что же и кого же обнажают слова "Побережья" No 3 1994 года из Филаделфии и как их оценить, по каким критериям?
У меня по роду моей профессиональной деятельности (я имею в виду гуманитарную науку и, в том числе исследоваия в области социальных аспектов медицины) к литературе выработалось отношение не только как к основной духовной потребности, но еще и как к исследовательскому материалу, который несет (должен нести) обобщенную информацию об уровне общественного понимания тех или иных явлений человеческого бытия.
Великие писатели остаются в истории- помимо всего прочего-очевидно, еще и достигнутой ими степенью обобщения движений человеческой души и общественных процессов, которые скрываются за сюжетами и характерами, изображенными в их поизведениях. Гений Пушкина смог даже такой заземленный бытовой предмет, как "разбитое корыто", сделать навсегда символом наказания за алчность, а талант Солженицина позволил в "одном дне" одного Ивана Денисовича представить огромный исторический пласт целого поколения времен тоталитаризма.
И потому "Побережье" представляется мне своего рода исследовательской лабораторией , в которую я вступаю с надеждой на встречу с открытиями. И, к радости, "открытия" явились мне с первого же раздела, с которого я начала читать журнал. Раздел этот- "Критика, эссе, зарисовки", где все- и полемика Михаила Золотоносова ("Умение молчать" с Анатолием Пакач (" Умение уметь") по поводу книги стихов Евгения Сливкина, и тонкий психологический анализ Нины Косман темы жертвенности в трагедии Цветаевой "Ариадна" , и заметки Игоря Михалевича- Каплана о стихах Павла Бавича- показалось мне весьма интересным.
Однако подробнее я хотела бы остановиться на тех произведениях этого раздела, которые оставили особое впечатление. Одно из них -эссе Инны Богачинской: "Ума холодных наблюдений". Двустраничное это произведение в отточенной , весьма оригинальной форме, представляет попытку самопознания творящей личности, исследование ее системы мышления, сомнений и борьбы, критериев жизни и творчества. Сентенциям же автора, например таким - "Я знаю, что за необщность присуждается высшая мера наказания. Но сама необщность- уже есть высшая мера..."; "Высшая доблесть- всегда остаться собой.Даже если для этого придется остаться только с собой...",- вероятно уготована судьба стать афоризмами
Лаконичное и эмоциональное эссе Евгении Жиглевич "Русь- Расея-Росия" привлекло меня анализом драмы противоречий судеб России, в который автор вкладывает и боль, и любовь, и надежду. " В Русь мы хотели бы внести страстность РАСЕИ - ее порыв,- утверждает автор.- . Одолевающие Расею страсти, так ярко проявившие себя в напралении нисходящем, вплоть до самых недр адовых,- обратить вспять и обратить их в высь...Русь и Рассея,завершает свой анализ автор,- единое двуликое существо, и мы хотим верить, что пропасти падений одного из ликов равны надземной высоте подъемов другого..."
Мои философские исследования в сфере медицины позволили прийти к выводу, о том, что современная концепция здоровья человека требует переориентации от акцентирования внимания на "факторах риска" , (что традиционно имеет место),- к приоритетному изучению "факторов устойчивости" (см. Л. Матрос. "Социальные аспекты проблемы здоровья". Изд. "Наука", Новосибирск, 1992 г.).Обобщая, невольно приходишь к выводу, о том, что такой подход был бы полезен при изучении и всех других сфер жизни человеческого общества.
Действительно, если " земля еще вертится", и если "еще ярок свет", как говорится в песне Булата Окуджавы, то это потому, что к нашему счастью, всегда появляются "факторы устойчивости", в лице хранителей и носителей вечных ценностей, которые еще держат "этот безумный, безумный мир" в каком-то равновесии. Эти размышления рождает статья Э. Штейна "Китайские жемчужины российского собрания". В свое время читая журнал "Арзамас", я была поражена рассказом Э.Штейна об издании в Лагерях Ди-Пи (перемещенныз лиц) произведений классиков, которые стали в годину лишений для беженцев" фактором устойчивости", помогавшим им выжить. Из статьи Э.Штейна, оубликованной в "Побережье", уже сам автор представляется мне одним из олицетворений этих "факторов устойчивости", хранителем вечных ценностей. Он сам говорит по этому поводу так: " Исторические процессы срабатали таким каверзным образом, что в свои 60 лет я стал практически пименом поэзии русского зарубежья". Отдавая дань "историческим поцессам", нельзя при этом не подчеркнуть прежде всего подвижническую деятельность самого Штейна по собиранию и хранению не только поэзии "русского рассеянья", различных течений и направлений в ней, но и разнообразных материалов, связанных с судьбами поэтов. Штейн начинает свою статью с цитаты поэта- харбинца Алексея Ачаирова:
Не сломила кручина нас, не выгнула,
Хоть пригнула до самой земли.
А за то, что нас родина выгнала
Мы по свету ее разнесли.
Читая статью Штейна, невольно начинаешь думать о том, что автор словно взял на себя миссию собрать эту "рассеянную по свету родину", чтобы сохранить ее для потомков, и этим сотворил рукотворный памятник тем, кто , несмотря ни на что, сберегал и приумножал ее духовное богатство. С печалью лишь остается констатировать, что сам собиратель, проделавший многолетний тинанический труд, в наши дни опасается за свои детища, перенося их - уже по иным причинам- с открытых взору и доступных полок в холодный сейф, ибо, как горько замечает Штейн, "пошли другие времена, принесшие варварские нравы".
Воистину стоит задуматься над вопросм о том, насколько мы, люди, вправе называть себя Homo sapiens-человеком разумным. И очевидно, если б не было тех, кто продуцирует, сохраняет, развивает "факторы устойчивости", постоянно появляющихся "факторы риска", обрекали б на вечную нестабильность , а то и гибель многих достижений нашей жизни, как материальных, так и духовных.
Я продолжаю свое пушествие по "Побережью" и останавливаюсь у раздела "Проза". Здесь, с моей точки зрения, особый интерес вызывает отрывок из романа Петра Межерицкого "Тоска по Лондону" и рассказ Игоря михалевича-Каплана "Разбуженная мелодия".
В небольшом отрывке Межерицкого как бы сконцентрированы основные приметы творческих судеб поколения шестидесятников. Уже одним совмещением в своем герое двух профессий- инженера и литератора, то есть "физика и лирика", автор словно подводит черту под давней дискуссией между "физиками и лириками", рожденной бурным развитием научно-технического прогресса и фетишизацией техники. Автор подводит нас к мысли о том, что сама жизнь, весь последующий опыт показал бессмысленность такого противопоставления, и насущные задачи человечества требуют единения технологических и гуманитарных концепций и сил общества...Через беседы с различными посетителями героя во время его пребывания в больничной палате (от литераторов до представителя "компетентных органов") автор предпринимает попытку представить разные аспекты забот шестидесятников , показать, что , несмотря ни на что, им удалось внести свою лепту в развитие морально -нравственных критериев жизни человеческой, которые займут достойное место в шкале ценностей, если даже они сами окажутся "терпящими кораблекрушение пассажирами на обреченной планете". Несмотря на мотивы грусти, страха духовного одиночества, отрывок из романа Межерицкого содержит оптимистическую ноту. Неслучайно в первых его строках оговорено, что герой хоть и лежит в больнице, болезнь его не тяжелая и в ней виноват он сам из-за легкомысленного самолечения ( что я восприняла, как символ самооценки судьбы поколения), а завершается рассказ тем, что герой проснулся, "когда уже совсем рассвело..."