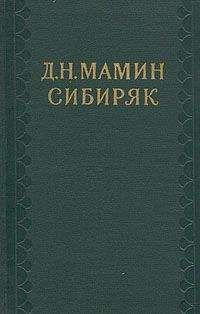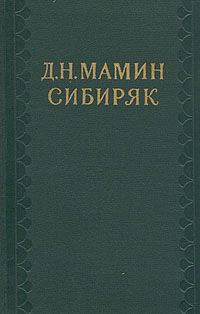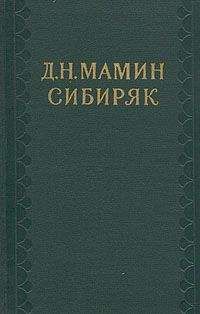Дмитрий Мамин-Сибиряк - “в худых душах...”
– Да о Кинте хотели рассказывать, матушка.
– Да, да… припомнила. Это я со снохой-то спуталась… Ну, помнишь, как тогда Никаша дохтуром приехал? Тогда Кинте уж в семинарию надо было переходить… Нет, не так. Митрею – в семинарию-то, а Кинтя в духовном училище учился. Так вот Митрея-то тогда из семинарии исключили. Никаша и взял его к себе. А Митрей, кроме своей водки, и знать ничего не хочет… Побился-побился с ним Никаша года с два, так ничего и не смог сделать, а Митрей в псаломщики поступил, а теперь в попы вылез. Это прежде трудно было в попы попадать, надо было из богословия, а нынче исключат из семинарии, а потом его же в попы и поставят. Так вот Митрей-то Яковлич первое горе нам с отцом и сделал. А теперь ничего, выправился. Сытый такой, горло широкое, конский завод держит… По-моему, это не подходяще попу… Только это мы успели оглянуться, а тут Прошка из училища вылетел. Этот уж совсем дурашливый уродился, так, пожалуй, и горя бы не было. Думали, пусть его при домашности останется; все же, пока мы живы, с голоду не помрет. А Никаша давай Прошку учить, да в учителя и определил… Ну, дальше уж знаешь, какая каша вышла с Ксенофонтом этим да с Варваром. Так вот трое у меня старшеньких сынков, как-никак, a все при месте. Опять вздохнули мы с попом свободнее, думаем – теперь отдохнем, потому Кинтильян учился первым, а Аня дома жила, так какая забота о ней. Ну, как, значит, человек возгордится, как мы возгордились с попом Яковом, господь его и найдет… Мы думаем теперь, вот отдых нам пойдет, – а глядишь, вместо отдыха горе, да еще какое горе-то!.. Вот у меня их пятеро, как перстов на руке, а всех одинаково жаль, да глупого-то, как Прошку, еще больше жаль. И пословица говорится: умного-то жаль, а дурака вдвое…
Старушка печально смолкла и, как бы отдохнув, продолжала:
– Из четырех сынов Кинтильян был самый меньшенькой, – так начала старушка подавленным голосом, – только еще Аня была его моложе… Та уж так и родилась и росла совсем на особицу: одна дочка в доме, балованное да нежное дитятко… Ну, так Кинтя как еще родился, так не нарадовались мы на него с попом… Точно сколоченный весь, как ядреная репа. Родился – и кулаки себе сосет, всех насмешил. Так он и вырос… Уж сколько же и хорош вырос мой мальчик: точно нарисованный. Не приходится свое детище хвалить, а к слову пришлось, да и дело прошлое. Румяный, брови черные, глаза, как у отца, да светленько таково поглядывают, и на все руки парень: озорничать так озорничать, учиться так учиться. Растим парня да потихоньку радуемся. И какой-то, господь его знает, карактер у него особенный: грубого слова не слыхивали, обиды не знали. Шелк, а не парень. И все-то он видит и все понимает, а стал подрастать – стишал, телячью-то бодрость оставил. Так мы его тогда и в училище это отдали. Отдали, учится, а что ни праздник, то нам, глядишь, новую радость везет, учился все первым, и учителя не нахвалятся. Кроткий да гораздый парень на все. А приедет домой, книжки все до единой привезет и все их учит. Поиграет и учит. Вчуже приятно было смотреть. Все завидовали, а мы напринимались маяты-то с Митрием-то Яковличем да с Прошкой-то, так нам это все вдвое кажется. Только одного и боялись, чтобы не избаловать. Поедет, бывало, к Никаше в гости и тоже книжки привезет и опять читать. Так он из училища первым поступил в семинарию и там первым кончил, а сам точно красная девица: румянец во всю щеку, как налитой. Водки капли в рот не брал, не курил этих цигарок… А здоровье у него, точно бы и век не изжить: никогда не хварывал ничем…
Вот после семинарии-то и грех первый у нас вышел, – продолжала старушка: – отцу взбрело что-то на ум уговаривать Кинтю идти в попы. И с чего это он придумал – ума не приложу! Сам всегда говорил, что поповское житье самое последнее, а тут на поди… Наладил, что, как умрем, некому будет пред престолом господним стоять… Так уж это, накатился стих такой… Ну, Кинтя слушал-слушал отца-то, тихонечко этак усмехнулся, да и ответил: «Это, говорит, вы меня дармоедом хотите сделать?» Тут уж отец из себя вышел: засучил рукава, да и показывает ему руки. «Погляди-ка, говорит, щенок ты этакой, разве у дармоедов такие мозоли живут на руках? Это, говорит, вы – дармоеды-то… Знаю, говорит, кто тебе в уши надул: Никашка!.. Он думает, говорит, что большое жалованье получает да образование имеет – так только будто и свету, что в окне? А я, говорит, горбом добываю каждый кусок, да этим же куском меня и корят…» Ничего не сказал Кинтя, сложил себе котомку, попрощался и ушел. «Куда, говорю, идешь-то?» – «Учиться», – говорит. Думаем с отцом, что к Никаше уйдет, на брата надеется. Стороной наведались про Никашу, а тот и сном дела ничего не знает. Тут уж мы и схватились за ум… Погорячился отец-от, понадеялся на его кротость, а надо бы его потихоньку да лаской. Ну, погоревали, потужили, поплакали, а прошлого, говорят, не воротишь… Через людей уж мы узнали, что Кинтя в Москве учится, а потом он и письмо прислал. Как уж он там устроился, где денег взял – ничего не знаем. Написал, что ему хорошо и что в деньгах не нуждается…
Прошло этак года с два, – продолжала матушка Руфина с тяжелым вздохом, – тут нам Кинтя и объявился в Шераме. Нежданно-негаданно, как снег на голову. «Приехал, говорит, из Москвы вас, стариков, повидать». А он эти два года в дохтурском отделении учился… То ли не дошлый парень! Обрадовались мы, что сына увидали, а про свои слезы да про горе, которое мы терпели за эти два-то года, мы и забыли… Больно уж рады мы Кинте-то были! Так рады, так рады… В те поры дочка-то, Аня-то, как раз в емназии в городу курс кончила; Никаша ее на свой счет учил – ну, нам радость вдвое. Не было ни гроша, да вдруг алтын. А Кинтя опять такой скромный да кроткий: воды не замутит. Отец совсем растаял, не надышится на него, а я, грешный человек, держу у себя на уме: «Ой, не ладно дело, что больно смирен наш Кинтя… Недаром он приехал сюда такую даль!» Уж я раскусила его тогда еще, как он отца-то дармоедом обозвал… Кротость-то у него больно уж мудреная. И ведь как он отца обошел: оказия!.. Совсем старик рехнулся и всякое зло позабыл, а следовало бы Кинтю тогда побранить, хоть для видимости. Я пробовала было ругать его, так куды тебе: отец так горой за него и стоит! Приступу нет. Ну, а вышло по-моему… Много слез привез тогда нам Кинтильян!
VI
– Теперь об Ане сказать… – дрогнувшим голосом проговорила старушка. – Последнее наше дитятко было, Аня-то! Маленькая замарашкой такой росла, а в емназии-то выровнялась. Я уж приданое потихоньку готовила… Вот у тебя простыни да одеяла – это из приданого Ани… Да, думали со стариком, что, может, господь велит, и внучат дождемся от дочурки. А мне так это уж совсем хорошо казалось, потому сынки-то – дорого они матери стоят, а радости да привету от них не много увидишь. А дочь-то другое совсем… Она уж все понимает, и дети-то дочернины как-то ближе, чем от сыновей… Ну, мы свое соображаем, а гляжу, стала Аня задумываться… Тогда уж я и спохватилась, что Кинтя ее по-своему поворотил. Увел ведь девку…
– Куда увел?
– Да в этот ваш Петербург… Чтоб ему ни дна, ни покрышки! Сколь мы ни бились, сколь ни уговаривали: наладила одно, что учиться поедет, и хоть ты ей кол на голове теши. Боялась я тогда, чтобы отец или сам не рехнулся, или над Кинтей чего не сделал… Однако обошлось дело так. Кинтюшка-то кротким таким прикинулся, точно он и под ногами-то у себя ничего не видит… Оказия, что это за человек уродится, ведь свое рожоное, а никак ты его не распознаешь… Хорошо. Увез Кинтя нашу Аню в Петербург, и остались мы одни-одинешеньки с Прошкой нашим. Куда с ним деться-то… Отец-то и возроптал на Кинтю тогда, тихо возроптал, а вышло-то так, что и за сына его, пожалуй, не стал считать.
Прошло этак с каких-нибудь полгода, не больше, пали до нас слухи, что с Кинтей не ладно… Ни слуху ни духу. Как в воду канул. Отец-то нарочно к Никаше в город ездил, телеграмму посылали, а все ничего. Аня отписала мне потихоньку, что Кинтя-то вышел раз из дому вечером, да больше и не приходил. Объявили в полиции, и там ничего не знают. Тогда мы и узнали настоящее горе… Жив ли Кинтя, помер ли, нагрезил ли – ничего не знаем. Я чуть и глаза-то все не проплакала о нем, а отец начал именно с тех пор газеты читать. Все читает и все из лица как будто темнеет. Ничего не говорит о Кинте, точно его и не бывало никогда. А меня-то вдвое убивает: хоть бы он пожалел его!.. Не понимала я тогда ничего, то есть попа-то своего не понимала, что у него на уме бродит. Только этак прошло с год время… Аня-то из Петербурга так и не выезжала… Летом это мы как-то спим с попом на постели. Кровать-то у нас двуспальная старинная. Сплю я этак и слышу, как будто кто-то плачет. Как вскочу… Спросонков-то показалось, что дите плачет. Ведь покажется же… Села, да и думаю: «Кому же, думаю, плакать, ведь все большие дети-то!» А на попа-то и не подумаю… Крепок он на слезы, – можно подумать, что совсем бесчувственный, а тут упал лицом-то в подушку да тихо-тихо так плачет, совсем по-ребячьи. Стала его спрашивать, утешать… Тут уж он и сказал все. Встал и говорит: «Сон видел, попадья…» – «Какой такой сон?» – спрашиваю. «А такой, говорит, не простой сон. Прилег, говорит, помолился про себя, а потом и вижу, точно наяву, Кинтю нашего. Вот как тебя вижу… Только далеко это, в нашей же стороне, где на собаках ездят. Бледный такой, исхудал, тоскливо таково смотрит. «Кинтя!» – окликнул я. Смотрит на меня, а ничего не говорит. «Кинтя, говорю, я тридцать лет пред престолом божиим возношу молитвы, а ты… что ты наделал? Ведь ты кровь моя, мое рождение, я за тебя должен ответ богу дать на страшном суде…» Слушает меня Кинтя, а потом как у него губы затрясутся, заплачет… «Папа, – говорит это, а сам плачет, – папа, прости меня… Я не могу… Это не от меня зависит… Не моя воля!» От этих самых слов я и проснулся, и так мне стало жаль Кинти, так жаль, что кажется, вот взял бы да и умер вместо него… Жаль, и стыдно, и страшно. Ведь я против бога иду, что такого сына пожалел…» Рассказывает это мне поп, а сам так рекой и разливается… Ну, потом уж я догадалась: затеплила перед образом свечку и велела попу молитву читать… Встали мы на коленки рядышком и давай со слезами с горькими молиться за всех и за вся, и за боляры, и за вои[12]. И так-то мы жарко молились, так хорошо, что и сказать тебе не умею. Плачем и молимся, молимся и плачем… Я, грешный человек, и за Кинтю заблудящего нет-нет да и поклонник и отложу, – тоже и за Аню. Так молитвой мы тогда этот самый сон и избыли. Точно гора с плеч…