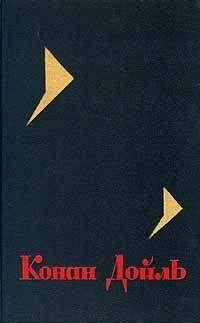Леонид Андреев - Том 2. Рассказы и пьесы 1904-1907
В вагоне I класса, в узком коридорчике, столпилась у открытого окна кучка знакомых между собою пассажиров, которым не спится. Они стоят, сидят на выдвинутых лавочках, и одна молоденькая дама с вьющимися волосами смотрит в окно. Ветер колышет занавеску, отбрасывает назад колечки волос, и Юрасову кажется, что ветер пахнет какими-то тяжелыми, искусственными, городскими духами.
— Pardon! — говорит он с тоскою. — Pardon. Мужчины медленно и неохотно расступаются, оглядывая недружелюбно Юрасова; дама в окошке не слышит, и другая смешливая дама долго трогает ее за круглое, обтянутое плечо. Наконец она поворачивается и, прежде чем дать дорогу, медленно и страшно долго осматривает Юрасова, его желтые ботинки и пальто из настоящего английского сукна. В глазах у нее темнота ночи, и она щурится, точно раздумывая, пропустить этого господина или нет.
— Pardon! — говорит Юрасов умоляюще, и дама с своей шелестящей шелковой юбкою неохотно придвигается к стене.
А потом снова эти ужасные вагоны III класса — как будто уже десятки, сотни их прошел он, а впереди новые площадки, новые неподатливые двери и цепкие, злые, свирепые ноги. Вот наконец последняя площадка и перед нею темная, глухая стена багажного вагона, и Юрасов на минуту замирает, точно перестает существовать совсем. Что-то бежит мимо, что-то грохочет, и покачивается пол под сгибающимися, дрожащими ногами.
И вдруг он чувствует: стена, холодная и твердая стена, на которую он измученно оперся, тихо и настойчиво отталкивает его. Толкнет и снова толкнет — как живая, как хитрый и осторожный враг, не смеющий напасть открыто. И все то, что испытал и увидел Юрасов, сплетается в его мозгу в одну дикую картину огромной беспощадной погони. Ему кажется, что весь мир, который он считал равнодушным и чужим, теперь поднялся и гонится за ним, задыхаясь и стеная от злобы: и эти сытые, враждебные поля, и задумчивая дама в окошке, и эти переплетающиеся тупо-упрямые и злые ноги. Они сейчас сонны и вялы, но их поднимут, и всею своею топочущей громадой они устремятся за ним, прыгая, скача, давя все, что встретится на пути. Он один — а их тысячи, их миллионы, они весь мир: они сзади его и впереди, и со всех сторон, и нигде нет от них спасенья.
Вагоны мчатся, раскачиваются бешено, толкаются, и похожи они на бешеных железных чудовищ на коротеньких ножках, которые согнулись, хитро прилегли к земле и гонятся. На площадке темно, и нигде нет намека на свет, а то, что проносится перед глазами, бесформенно, мутно и непонятно. Какие-то тени на длинных, задом шагающих ногах, какие-то призрачные груды, то подступающие к самому вагону, то мгновенно исчезающие в ровном, безграничном мраке. Умерли зеленые поля и лес, одни их зловещие тени бесшумно реют над грохочущим поездом, а там, за несколько вагонов сзади, быть может, за четыре, быть может, только за один, так же бесшумно крадутся те. Трое или четверо, с фонарем, они осторожно рассматривают пассажиров, переглядываются, шепчутся и с дикой, смешной и жуткой медленностью подвигаются к нему. Вот они растворили еще одни двери… еще одни двери…
Последним усилием воли Юрасов принуждает себя к спокойствию и, медленно оглядевшись, лезет на крышу вагона. Он встал на узенькую железную полоску, закрывающую вход, и, перегнувшись, закинул руки вверх; он почти висит над мутною, живою, зловещей пустотой, охватывающей холодным ветром его ноги. Руки скользят по железу крыши, хватаются за желоб, и он мягко гнется, как бумажный; ноги тщетно ищут опоры, и желтые ботинки, твердые, словно дерево, безнадежно трутся вокруг гладкого, такого же твердого столба — и одну секунду Юрасов переживает чувство падения. Но уже в воздухе, изогнувшись телом, как падающая кошка, он меняет направление и попадает на площадку, одновременно ощущая сильную боль в колене, которым обо что-то ударился, и слыша треск разрывающейся материи. Это зацепилось и разорвалось пальто. И не думая о боли, и не думая ни о чем, Юрасов ощупывает вырванный клок, как будто это самое важное, печально качает головой и причмокивает: тсс!..
После неудачной попытки Юрасов слабеет, и ему хочется лечь на пол, заплакать и сказать: берите меня. И он уже выбирает место, где бы лечь, когда в памяти встают вагоны и переплетающиеся ноги, и он ясно слышит: те, трое или четверо с фонарями, идут. И снова бессмысленный животный ужас овладевает им и бросает его по площадке, как мяч, от одного конца к другому. И уже снова он хочет, бессознательно повторяясь, лезть на крышу вагона — когда огненный хриплый широкозевный рев, не то свист, не то крик, ни на что не похожий, врывается в его уши и гасит сознание. То засвистал над головой паровоз, приветствуя встречный поезд, а Юрасову почудилось что-то бесконечно ужасное, последнее в ужасе своем, бесповоротное. Как будто мир настиг его и всеми своими голосами выкрикнул одно громкое:
— А-га-а-а!..
И когда из мрака впереди пронесся ответный, все растущий, все приближающийся рев и на рельсы смежного полотна лег вкрадчивый свет надвигающегося курьерского поезда, он отбросил железную перекладину и спрыгнул туда, где совсем близко змеились освещенные рельсы. Больно ударился обо что-то зубами, несколько раз перевернулся, и когда поднял лицо со смятыми усами и беззубым ртом, — прямо над ним висели три какие-то фонаря, три неяркие лампы за выпуклыми стеклами.
Значения их он не понял.
Сентябрь 1904 г.
Красный смех
Часть I
…безумие и ужас.
Впервые я почувствовал это, когда мы шли по энской дороге — шли десять часов непрерывно, не останавливаясь, не замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их неприятелю, который сплошными массами двигался сзади нас и через три-четыре часа стирал следы наших ног своими ногами. Стоял зной. Не знаю, сколько было градусов: сорок, пятьдесят или больше; знаю только, что он был непрерывен, безнадежно-ровен и глубок. Солнце было так огромно, так огненно и страшно, как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне. И не смотрели глаза. Маленький, сузившийся зрачок, маленький, как зернышко мака, тщетно искал тьмы под сенью закрытых век: солнце пронизывало тонкую оболочку и кровавым светом входило в измученный мозг. Но все-таки так было лучше, и я долго, быть может, несколько часов, шел с закрытыми глазами, слыша, как движется вокруг меня толпа: тяжелый и неровный топот ног, людских и лошадиных, скрежет железных колес, раздавливающих мелкий камень, чье-то тяжелое, надорванное дыхание и сухое чмяканье запекшимися губами. Но слов я не слыхал. Все молчали, как будто двигалась армия немых, и, когда кто-нибудь падал, он падал молча, и другие натыкались на его тело, падали, молча поднимались и, не оглядываясь, шли дальше — как будто эти немые были также глухи и слепы. Я сам несколько раз натыкался и падал, и тогда невольно открывал глаза, — и то, что я видел, казалось диким вымыслом, тяжелым бредом обезумевшей земли. Раскаленный воздух дрожал, и беззвучно, точно готовые потечь, дрожали камни; и дальние ряды людей на завороте, орудия и лошади отделились от земли и беззвучно студенисто колыхались — точно не живые люди это шли, а армия бесплотных теней. Огромное, близкое, страшное солнце на каждом стволе ружья, на каждой металлической бляхе зажгло тысячи маленьких ослепительных солнц, и они отовсюду, с боков и снизу забирались в глаза, огненно-белые, острые, как концы добела раскаленных штыков. А иссушающий, палящий жар проникал в самую глубину тела, в кости, в мозг, и чудилось порою, что на плечах покачивается не голова, а какой-то странный и необыкновенный шар, тяжелый и легкий, чужой и страшный.
И тогда — и тогда внезапно я вспомнил дом: уголок комнаты, клочок голубых обоев и запыленный нетронутый графин с водою на моем столике — на моем столике, у которого одна ножка короче двух других и под нее подложен свернутый кусочек бумаги. А в соседней комнате, и я их не вижу, будто бы находятся жена моя и сын. Если бы я мог кричать, я закричал бы — так необыкновенен был этот простой и мирный образ, этот клочок голубых обоев и запыленный, нетронутый графин.
Знаю, что я остановился, подняв руки, но кто-то сзади толкнул меня; я быстро зашагал вперед, раздвигая толпу, куда-то торопясь, уже не чувствуя ни жара, ни усталости. И я долго шел так сквозь бесконечные молчаливые ряды, мимо красных, обожженных затылков, почти касаясь бессильно опущенных горячих штыков, когда мысль о том, что же я делаю, куда иду так торопливо, — остановила меря. Так же торопливо повернул в сторону, пробился на простор, перелез какой-то овраг и озабоченно сел на камень, как будто этот шершавый, горячий камень был целью всех моих стремлений.
И тут впервые я почувствовал это. Я ясно увидел, что эти люди, молчаливо шагающие в солнечном блеске, омертвевшие от усталости и зноя, качающиеся и падающие, что это безумные. Они не знают, куда они идут, они не знают, зачем это солнце, они ничего не знают. У них не голова на плечах, а странные и страшные шары. Вот один, как и я, торопливо пробирается сквозь ряды и падает; вот другой, третий. Вот поднялась над толпою голова лошади с красными безумными глазами и широко оскаленным ртом, только намекающим на какой-то страшный и необыкновенный крик, поднялась, упала, и в этом месте на минуту сгущается народ, приостанавливается, слышны хриплые, глухие голоса, короткий выстрел, и потом снова молчаливое, бесконечное движение. Уже час сижу я на этом камне, а мимо меня все идут, и все так же дрожит земля, и воздух, и дальние призрачные ряды. Меня снова пронизывает иссушающий зной, и я уже не помню того, что представилось мне на секунду, а мимо меня все идут, идут, и я не понимаю, кто это. Час тому назад я был один на этом камне, а теперь уже собралась вокруг меня кучка серых людей: одни лежат и неподвижны, быть может, умерли; другие сидят и остолбенело смотрят на проходящих, как и я. У одних есть ружья, и они похожи на солдат; другие раздеты почти догола, и кожа на теле так багрово-красна, что на нее не хочется смотреть. Недалеко от меня лежит кто-то голый спиной кверху. По тому, как равнодушно уперся он лицом в острый и горячий камень, по белизне ладони опрокинутой руки видно, что он мертв, но спина его красна, точно у живого, и только легкий желтоватый налет, как в копченом мясе, говорит о смерти. Мне хочется отодвинуться от него, но нет сил, и, покачиваясь, я смотрю на бесконечно идущие, призрачные покачивающиеся ряды. По состоянию моей головы я знаю, что и у меня сейчас будет солнечный удар, но жду этого спокойно, как во сне, где смерть является только этапом на пути чудесных и запутанных видений.