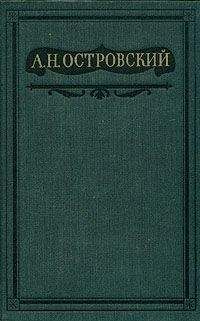Ал Малышкин - Люди из захолустья
Соустин попутно заметил:
- Я получаю письма из провинции, из деревни. Там все опять разворошено, как в восемнадцатом. Очевидно, революция, товарищ Калабух, не терпит длительных спокойных передышек?
Калабух, прошагав грузно, по-военному, остановился у окна. То была поза мыслителя: руки назад, взгляд рассеянно прищурен, он созерцал не во вне, а внутри себя.
- Еще старик Фихте сказал... - он произнес это не без поощрительной иронии, как бы многое по-свойски прощая добряку Фихте, - еще старик Фихте сказал: "Мы, человечество, ставим себе задачи и разрешаем, чтобы в их разрешении найти еще более высшие задачи"!
Соустин слушал с подчеркнутой внимательностью. Нет, тут было не унаследованное от Мшанска, дедовское, мужицкое низкопоклонство: Калабух обаял его чем-то... Бывший наборщик, бритоголовый, курносоватый и по-бычьи насупленный, в обвислых защитного цвета шароварах и гимнастерке, - как мало согласовались с такою внешностью и биографией его нежданная ученость, культурная широта обобщений, почти профессорская изысканность цитат!
Но Калабуха прервал курьер, принесший Пашкину перепечатанную на машинке рукопись. Соустин вышел из-за стола, чтобы напомнить, в чем дело. Завотделом не читал, скорее дергал, сморщившись, страницу за страницей. Он равнодушно бросил рукопись замирающего в надежде Пашки, вместе с его бахилами, бросил на стол.
- Отдайте тому, кто заказывал.
- Но товарищ Зыбин сказал...
- Пусть товарищ Зыбин и печатает, где хочет.
Равнодушие было напускное; за ним пряталось явное удовлетворение, пожалуй, даже предвкушаемое торжество... Соустин на ходу перелистал рукопись. Конечно, задание дали Пашке не по силам. А он еще, по своей пылкости, перестарался в иных местах, подпустил такой лирики, что за него морозным стыдом подирало по спине. Соустин жалел парня, хотя и знал, что Пашку взлелеивали как будущего его соперника.
Зыбин, очень занятый своими делами, взял статью не глядя. Хорошо, он сейчас сам поговорит с Калабухом. Он вообще мало или как-то черство замечал Соустина. Может быть, даже считал, что для редакции больше не нужен такой.
Дело было не в Зыбине. Из-за него глядел завтрашний день, готовящийся как будто заново, безжалостно, пересмотреть людей и их дела.
Впрочем, мысли об этом жили пока туманно... Соустин опять пал грудью на свои рукописи. Он кушал уже эту пищу без аппетита, но статья о хлебозаводе его все-таки заинтересовала.
Хлеб, хлеб - вот он теперь как делается!
Огромные чаны, в которых пухнет опара, мощные лопасти месилок, а тесто режет механическая делительная машина на равные, одинакового веса и величины куски... Конвейер подает их в печь, эти пузатые, пахнущие Мшанском, юностью кругляши. Только в Мшанске калачная помещалась в полуподвале, где густая железная муха гудела и осыпала стены черной листвой и тело взлипало от едучей огненной духоты, так что подпекарь Колька Соустин работал в одних подштанниках. И пот его капал прямо на жирные, пудовые тестяные оплывы, которые он кулачил и с крёкотом ворочал с боку на бок своими наболелыми, малосильными еще кулаками. Прилипшие к рукам ошурки соскабливались потом опять в корыто с тестом, чтобы не пропадало добро. И пылающие глянцево-желтые, розоватые караваи с писком остывали на верстаках, на полатях, на кочкастом от грязи полу. "Почему они пищат?" - спросил он как-то, еще дитенком. "Дак они с котятами", - пошутил хмуристый, деловой дед.
Неожиданный голос Зыбина сказал:
- А статейку-то, Калабух, придется все-таки напечатать.
Зыбин вошел неслышно, во время грез, казалось - проплыл сквозь стены. От человека отлагалась в памяти его высокость, неторопливая, слегка пригорбленная, его волосы, вставшие на голове желтым кудлатым хохлом, такую прическу носят студенты-физкультурники, она дрожит на бегу и раздувается на висках, как рога.
Калабух стучал пальцами по газетному листу.
- Что у нас, товарищ Зыбин, большая серьезная политическая газета или место для упражнения малограмотных? Ты даешь заметку по искусству, по одному из важнейших отделов куль-ту-ры! И ты хочешь сунуть читателю позорную, смешную мазню, дребедень?
- Погоди, погоди, Калабух. В условиях пятилетки газете нужны новые кадры, с нашим, рабочим нюхом...
- Нет, ты почитай! - Калабух, выдернув у него рукопись, кинул глазом на Соустина, как бы приглашая его поторжествовать вместе. - "На картине нарисован сильный, мускулистый (ну да, обязательно мускулистый!) рабочий, который могучим ударом выбивает из болванки искры, словно волшебные бриллиантовые цветы". Дальше: "К сожалению, нарисовано все очень мрачной краской, не давая понятия поэзии пролетарского труда..."
- Ну, подправить, подсократить, заметочку сделать, подбодрить парня. Парень способный, он, понимаешь, во время борьбы с троцкизмом мобилизовал у себя на заводе стенгазету - во! Парень читает стремится...
- Так, Зыбин, не подбадривают. Ты знаешь, что такое культура? Ее кустарщиной, наскоком не возьмешь... как вообще и многое прочее...
- А что еще прочее наскоком не возьмешь? - тихонько полюбопытствовал Зыбин.
- Я говорю, Зыбин, что ты делаешь вредное дело.
- Я делаю вредное дело?
- Да, ты делаешь вредное дело. Статью я не напечатаю.
- Пойдем к редактору.
- Пойдем к редактору.
Зыбин, вспомнив, обернулся от порога:
- Кстати, товарищ Соустин, завтра пойдете на парад для отчета.
Соустин кивнул, приятно вспыхнув. Ага, значит он еще нужен! Привстал, чтобы удержать Зыбина, распросить подробнее о задании, но того в самых дверях задержала женщина. Она ворвалась в шубе нараспашку, морозно-свежая, смеющаяся, неуместная - его жена Ольга Львовна.
- Тоня, - она повела смеющимися, дремотными глазами и на Калабуха и на Соустина, - мне, конечно, нужно денег!
- Ну, матушка, с домашними делами потом... иди подожди в секретариате.
Оба они с Калабухом, должно быть, ушли - Соустин, не поднимая головы, слышал, как хлопнула дверь. Но женщина - он чувствовал - осталась в комнате. Вот она тихо подошла к его столу, она наклонилась над его головой. Ее телесное тепло, смешанное с духами, с фиалкой, жалело и баюкало его.
- Здравствуйте, Коля, - сказала она.
Соустин не мог ничего выговорить, в глазах все ломалось и плыло от слез, как тогда, в Мисхоре.
- Зачем все так случилось? - спросил он.
Женщина стояла над ним, поддаваясь ему, улыбаясь закрытым ртом, прежняя, неутоляющая Ольга, и те же под глазами припухлости, от которых глаза какие-то дремотные, воспаленно-сонные... Именно их сонность очаровывала, преследовала потом.
- Ты вправду пришла за деньгами?
- Ну, конечно, нет, - Ольга утешала, гладила его по голове.
Соустин взял ее руки и ладонью закрыл себе глаза. Вот и опять он с любимой, с любимой... Была темнота и бесконечный благодатный отдых. Она легонько отнимала руку.
- Коля, осторожнее... Когда мы увидимся?
Завтра вечеринка в редакции, послезавтра он освободится... ну, к семи. В переулке, да?
Ольга, лукавя, допрашивала его, она же знала заранее ответ:
- В каком переулке, скажи!
- В счастливом переулке.
Она вскользь оглянулась на дверь и наскоро подставила ему теплые, чуть обветренные губы. В распахнутой ее шубке все было уступчивое, изласканное... Он потом сидел несколько минут, сладко ломая себе руки.
Вошел Калабух, неся рукопись обратно; лицо его пятнисто горело.
- Сколько здесь? Строк полтораста-двести? Сделайте заметку строк на сорок.
- Неужели все-таки печатать? - из сочувствия подивился Соустин.
- Да, надо печатать! - резко оборвал Калабух. Соустин примолк. Очевидно, редакционный спор перерос уже в иную сферу, где не место было беспартийным замечаниям, где стиралось беспрекословно даже самолюбие Калабуха. С Соустиным разговаривал член партии.
Впрочем, Калабух не мог подавить какой-то хандры, тотчас начал одеваться, набивать портфель как попало. Он сказал, что сходит пока к Китайгородской стене, на книжный развал, посмотреть что-нибудь из книжонок, а потом зайдет часа через два - подписать полосу. Соустин вздохнул освобожденно: ему необходимо было хоть раз пробежать с распылавшейся головой по морозному ветру вокруг ГУМа.
Калабух нес добычу с книжного развала: полного Гейне без переплета и несколько философских сборников предвоенного времени. Этот вид азарта овладел им лишь за последние два года, когда Калабух обосновался, наконец, по-семейному. Может быть, он заразился им с тех пор, как побывал в профессорских квартирах, где самый воздух от изобилия книг подернут благоговейным библиотечным полусумраком; может быть, того требовало, по его мнению, то дело, которым он горел сейчас с мальчишеской страстностью, освоение высшей культуры: ему тоже очень хотелось видеть все четыре стены своей квартиры на Остоженке до потолка замурованными в книги, хотелось того же солидного полусумрака. Пока за два года он заполнил лишь две стены. Тут были, конечно, классики марксизма, были кое-какие классики философии в переводах, целая полка пестро-красочной "Академии", а среди прочего, составлявшего шестьдесят процентов, рыхло-беспереплетного, ощерившегося драными корешками и почему-то особенно милого сердцу хозяина барахла (пристрастие к случайным, дешевым находкам!), можно было найти и том Ницше, и собрание сочинений Горбунова в приложении к "Ниве", и "Университет на дому", и книгу Леонтьева, и библию без двух первых страниц, и старый альманах "Шиповник".