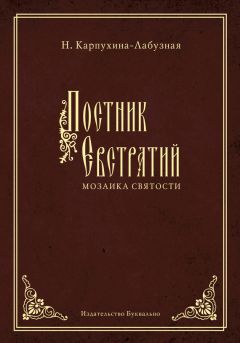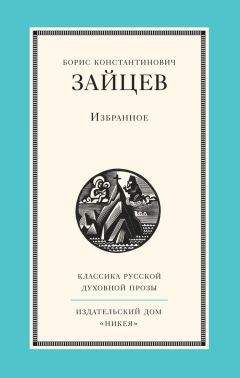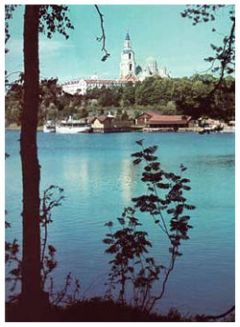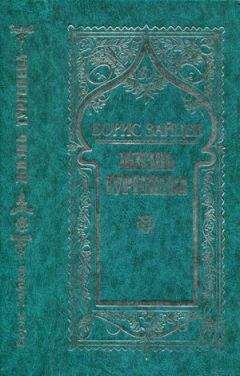Борис Зайцев - Чехов
Обо всех этих горестных пустяках отписывал Александр Антону, но для самого Александра это были далеко не пустяки: они очень задевали его жизнь. Родители косо смотрели на то, что он поселился отдельно. Считали это ненужной роскошью. Выходили тяжелые объяснения, с упреками, увещаниями. Александр силен характером не был – уступил и переселился к ним, вместе с собакой своею Корбо. Хорошего получилось, конечно, мало. «Как мне живется, не спрашивай. Комнаты отдельной у меня нет. В той комнате, в которой я предполагал жить, обитает «жилец».
Но прошло время, и некоторые корни он пустил.
Уже в феврале 1879 года пишет Антону: «Я… обзавелся птицами певчими всех сортов и видов. Штук до 40; летают на свободе по всем комнатам. Радуют меня и всех».
Одного Корбо, пса, оказалось мало. Близость Трубы и птичьего рынка дала себя знать – Александр впал в птичничество. Но можно представить себе, как пачкали эти жильцы и так неблестящее жилье Чеховых! Только что щебет утешал.
В письмах Александр обращался к брату так: «Толстобрюхий отче Антоние» или: «Глубокочтимый и достопоклоняемый братец Антон Павлович!» Но рядом: «Regis coelesti olechus»[3] – остроумие, забавлявшее в 80-х годах наших отцов. Но за шутками этими очень серьезное отношение к «достопоклоняемому братцу», собственно, даже любовь к нему и забота. Какие-то гроши собираются, чтобы он приехал на праздники, хлопоты о том, как его устроить. В них же и отголоски первых литературных шагов самого Антона Павловича. И тоже большое внимание.
Брат Александр, сам склонный к иронии и насмешке, сам и к литературе тяготел, кое-что уже печатал в мелких журнальчиках, убогих и наивных, как убога была вся газетно-журнальная среда Москвы того времени. Кое-что этим подрабатывал. В сравнении с гимназистом Антоном был уже литератором. Антон стал присылать ему кое-какие мелочи. Иногда их печатали. «Анекдоты твои пойдут. Сегодня я отправил в «Будильник» по почте две твоих «остроты». Остальные слабы. Присылай побольше коротеньких и острых. Длинные бесцветны».
Они вовсе не сохранились. Вряд ли Чехов жалел об этом. Но вот написал он в своем Таганроге, в бывшем собственном доме, а теперь в комнатушке Селиванова, вещь более (для него) серьезную: драму «Безотцовщина». Драму эту послал в Москву Александру и сохранил первую рецензию на первое свое произведение, – должно быть, оно что-то для него значило.
Александр отнесся к делу серьезно. Несмотря на разные Regis coelesti olechus, прочитал пьесу основательно, со всею внимательностью старшего. Отзыв получился и суровый и любопытный. «В «Безотцовщине» две сцены обработаны гениально, если хочешь… (Чехов зрелый улыбнулся бы на это «гениально». – Б. 3.) Но в общем она непростительная, хотя и невинная ложь. Невинная потому, что истекает из незамутненной глубины внутреннего миросозерцания. Что твоя драма ложь – ты сам это чувствовал, хотя и слабо и безотчетно, а между прочим, ты затратил на нее столько сил, энергии, любви и муки, что другой больше не напишешь».
Неизвестно, как принял Антон эту критику, но, конечно, долговязый, незадачливый Александр, пока еще опекающий Антона, почувствовал в нем особенное. Сам он уже печатается, а тот получает еще пятерки в гимназии и пишет «ложь», но какую-то такую, что мимо нее не пройти и даже вот две сцены «обработаны гениально».
Так же, как на семейной группе круглолицый, с приятным здоровым лицом мальчик-гимназист резко выделяется из других и рядом с ним Александр, Николай явно напрашиваются в неудачники, так и в полудетской «Безотцовщине» чувствовал, разумеется, Александр некое «неспроста». Так же всегда чувствовала материнским сердцем Евгения Яковлевна, что весь ключ жизни семьи в «Антоше».
«Мне кажетца что ты как приедешь то мне лучше будет».
* * *Она не ошиблась. Лучше стало не ей одной, а всей семье Чеховых.
Павел Егорыч отодвинулся. «Расписание делов и домашних обязанностей» не висело уже на стене. Сам он получил наконец место – очень скромное, но все-таки место: конторщика у купца Гаврилова, в Замоскворечье. Там и жил, с приказчиками. Получал тридцать рублей в месяц. Домой приходил только в праздничные дни – мог любоваться по воскресеньям щеглами, чижами, зайцами Трубного рынка. Но дома не мешал.
Антон же Павлович водворился уже студентом Московского университета. Факультет выбрал самый трудный, медицинский. По чеховским тогдашним понятиям, привез с собой целый капитал – сто рублей. Мало того, привез двух жильцов-нахлебников для усиления оборота. Прежняя квартирка оказалась тесной, сняли другую, также на Грачевке, в пять комнат. Теперь спали уже не вповалку и не на полу. Дух порядка, труда и некоторого благообразия сразу появился – он всюду Антону Чехову сопутствовал. Не зря Селиванов называл шестиклассника таганрогского по имени-отчеству: Антон Павлович.
Этот Антон Павлович представлял из себя тогда, в первые годы Москвы, крупного юношу, несколько еще нескладного и как бы мешковатого, но на вид здорового и краснощекого, с обильными, зачесанными назад волосами, в длинной визитке странного на теперешний взгляд покроя. Вот он стоит, опершись спиной о бюро, скрестив за спиной руки, и спокойно смотрит, как брат Николай, сидя у столика рядом, что-то рисует на огромном листе ватманской бумаги. Восьмидесятые годы в тяжелых занавесях на окне, в бронзовом четырехсвечнике на этажерке, в восточном ковре на полу.
Но этот, будто с ленцой, неуклюжий молодой человек совсем не ленив – напротив, трудится очень много и не зря. Брат Николай со своим художеством вполне богема, нервная и мятущаяся, разжигаемая алкоголем, как и старший брат Александр. Но Антон – удивительное равновесие. Человек его возраста, его жизнелюбия, полный сил, не может, конечно, жить аскетом или заоблачным философом. Жизнь есть жизнь. Брат Антон, студент первого, а потом и всех следующих курсов, очень даже не прочь выпить и похохотать, ухаживать за барышнями, острить, целую ночь просидеть за стуколкой – смешной провинциальной игрой того времени, но, как позже и в искусстве его, чувство меры ему прирожденно.
Он стоит на ногах очень прочно, сдвинуть его нельзя. Никакие запои и пьяные фантасмагории, посещавшие старших братьев, ему несвойственны. Он живет в эти свои молодые годы, будто бы так располагавшие к долголетию и спокойно-ровной жизни, очень напряженно и труднически, но толково. Есть определенная цель: выбиться самому, вытащить и семью, всё наладить, поставить благообразно.
Университет и наука давали ему, после Таганрога, конечно, много нового. Некоторую религию науки, так стеснявшую потом его философствование, он начал усваивать на этом медицинском факультете. Только что вышли «Братья Карамазовы». Юный, но уже блистательный Вл. Соловьев восходил над горизонтом, Чехов же питался лекциями Склифосовского и других со всей страстностью провинциала, которому Москва восьмидесятых годов с конками, Трубой, «студенчеством», распевавшим по ресторанам на Татьянин день Guadeamus igitur, – всё это казалось верхом культуры, чуть ли не центром мира.
Он усердно учился, посещал разные практические занятия, благоговел пред самоуверенными, с самодурством, Захарьиными, но была в нем сторона и другая. Для чего-то писалась в Таганроге «Безотцовщина», устраивался журнальчик «Заика», подбирались разные смешные мелочи и проливались слезы над «Без вины виноватыми». Правда, слезы эти были еще детские, теперь он уже студент и в театре не заплачет. Зато и театр в Москве настоящий – Малый театр блистал тогда, был у театра этого и первейший драматург – Александр Николаевич Островский.
(Можно думать, что единственно, что могла дать юному Чехову Москва, был именно театр.)
Но надо было и зарабатывать. Тут проявилось трудничество его замечательное. Как успевал он и учиться в университете, и много писать, об этом знают одни молодые его силы, не надорванные ли, впрочем, таким напряжением?
Из Таганрога он присылал Александру «остроты». Теперь стал писать маленькие юмористические рассказы – печатать их начал уже без Александра: редакторы сразу заметили, что студент этот не совсем обычный. Он подписывал творения свои «Антоша Чехонте». (Есть известие, что прозвище такое дал ему еще в Таганроге, в гимназии, смешливый законоучитель – явление довольно странное и редкое для тех времен: не без труда представляешь себе смешливого батюшку с журналом ученических отметок, а ведь все-таки такой нашелся и оставил даже след в биографии Чехова.)
Крестник же литературный этого благодушного иерея начинал свое писание так скромно, так ужасно скромно и непритязательно, как ни один из наших писателей.
И в какой среде приходилось начинать! «Будильники», «Стрекозы», разные другие ничтожества. Среди них «Осколки» Лейкина считались уже «чем-то», как и сам Лейкин.
На фотографии изображен средних лет, плотный, в бороде, здорового и «русского» вида мужчина, скорее даже приятный, вроде племянника Островского. Николай Александрович Лейкин и происходил из купеческого петербургского рода, в молодости был приказчиком, но с ранних лет занялся литературой. В шестидесятых годах сотрудничал в «Современнике», «Искре», знавал Некрасова, Глеба Успенского. Был человек живой и остроумный, очень хозяйственный. Писал разные мелочи юмористические, а одна его книжка даже отчасти осталась в малой литературе: «Наши за границей». Журнальчик же, им устроенный, «Осколки», хорошо расходился и был несколько выше других. В эти «Осколки» Чехов попал очень рано, ранние письма его Лейкину помечены 83-м годом, еще с Трубы. Не так давно «старшим» был для него брат Александр, теперь это петербургский редактор-издатель Лейкин, считающий, что его «Осколки» ведут какую-то свою линию в литературе. Журнальчик был юмористический, и уже одно то, что там печатался Чехонте, подымало его над другими. Лейкин считал себя чуть ли не наставником Чехова, сумел внушить ему, что существует какой-то «осколочный» жанр – Чехов считался с этим, посылая рассказы. «Я могу написать про Думу, мостовые, про трактир Егорова… Да что тут осколочного и интересного?» – так писал он Лейкину в 85-м году, почти уже на закате своей юмористики. Что же сказать, когда был просто молоденьким студентом, стипендиатом города Таганрога и только-только начинал?