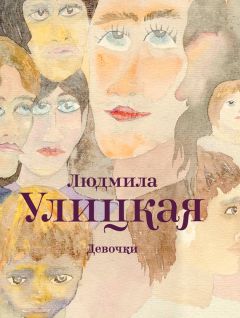Людмила Улицкая - Пиковая Дама
- Мне бы хотелось пораньше. Можно? - он обратился к Анне Федоровне, и ей показалось, что он немного ее боится.
- Ты без пальто? - восхитился Гриша.
- Вообще-то куртка у меня в гостинице есть, да зачем она? Меня машина внизу ждет.
Дети смотрели на него с таким восхищением, что Анна Федоровна немного расстроилась и тут же сама устыдилась: все, в конце концов, так понятно, он всегда был обаятельным, а к старости стал еще и красивым... Но в душе у нее ныло от смутной горечи и недоумения.
Как это часто бывает, семейная традиция безотцовщины в каждом следующем поколении усиливалась. Собственно говоря, последним мужчиной отцом в их семье - был старый Чарнецкий, потомок лютого польского воеводы, нежнейший родитель трех красавиц: Марии, Эвелины и Беаты.
Сама Анна Федоровна осталась сначала без матери, когда Мур бросила доктора Шторха по мгновенному вдохновению, выйдя однажды из дому и как бы забыв вернуться. Через несколько дней она прислала за вещами первой необходимости, среди которых не значилась полуторагодовалая дочка. Новое замужество Мур было еще неокончательным, но уже в правильном направлении. Чутье подсказало ей, что время декадентских поэтов и неуправляемых героев закончилось. Первая проба Мур в области новой литературы была не самая удачная, зато последующие в конце концов увенчались успехом: образовался у нее настоящий советский классик, гений лицемерия в аскетической оболочке и с самыми нуворишскими страстями вдуше. Показывая коллекцию фарфора, свежекупленного Борисова-Мусатова или эскиз Врубеля, он обаятельно разводил руками и говорил:
- Это все Муркины причуды. Взял бабу-то из благородных, теперь отдуваться приходится...
Последний брак был отличный, и маленькая Анна пребывала с родным отцом - до поры до времени о ней не вспоминали. Мур снова вошла в большую литературу, у нее был роман с главным драматургом, с очень заметным режиссером и несколько легких связей на хорошо оборудованном для этого фоне первоклассных южных санаториев. Построился, наконец, солидный дом в Замоскворечье, где квартиры выдавали не из плебейского счета на метродуши, а в соответствии с истинным масштабом писательской души. Но и здесь были какие-то бюрократические ограничения, пришлось прописать к себе обеих сестер, и решено было забрать девочку. К тому же Мур обнаружила, что принадлежащий ей классик неплатоническим оком взирает на пышных подавальщиц и молоденьких горничных, и решила, что пришла пора укрепить семью, дав возможность классику проявить себя в качестве родителя уже подросшей девочки.
Мур забрала у престарелого хирурга семилетнюю дочку.
Обожавшая отца девочка была перевезена из сладостно-ленивой Одессы в чопорную, только что полученную московскую квартиру и постепенно забывала отца, общаться с которым ей было теперь запрещено. По настоянию Мур девочке поменяли птичью немецкую фамилию на всесоюзно известную, велели звать толстого лысака "папой" и оставили на попечении второй тетки, пребывающей круглогодично на писательской даче. Через несколько лет наступили военные времена, эвакуация в Куйбышев, от которого остался во всю жизнь незабытый ужас холода, возвращение в Москву в жарком правительственном вагоне и счастливая встреча с Москвой, именно в эти первые после возвращения месяцы ставшей для нее родным городом. Своего отца она так никогда больше и не видела и только смутно догадывалась о своем глубиннейшем с ним сходстве.
Дочь Анны Федоровны Катя сохранила о своем отце еще более смутные воспоминания. Это были обрывчатые, но крупным планом заснятые картинки: вот она, больная, с завязанными ушами, а отец приносит ей прямо в постель щенка... вот она стоит на крыльце и наблюдает, как он выуживает из колодца с помощью длинной палки с крюком на конце утопленное ведро... вот они выходят из деревянного домика с горько-дымным запахом, идут по заснеженной дороге в огромный царский дворец, где большие окна от пола до потолка, изразцовые печи, картины на стенах и пахнет летом и лесом...
Приезды отца в Пахру, где Катя, как в свое время и ее мать, жила до школы, почему-то почти не запомнились. Сохранилось лишь одно яркое воспоминание: она, Катя, в пятнистой кошачьей шубе и меховой шапке идет по узкой тропинке к остановке автобуса, держась одной рукой за тетю Беату, другой - за отца. Автобус уже стоит на остановке, и она страшно боится, что он опоздает, не успеет в него влезть, и, вырвав свою руку, она кричит ему:
- Беги, беги скорей!
В том же году он и выполнил Катину рекомендацию.
Удивительно даже, на какую глубину была похоронена детская любовь: многие годы Катя совсем не вспоминала ни о нем, ни о честной немецкой вещице, пригодной для изучения клеток кожицы лука и лапок блохи...
Катина ранняя дочка Леночка и вовсе не помнила своего отца. Катя развелась с мужем через год после рождения Леночки. Алиментов она никогда от него не получала и только слышала от общих знакомых, что он жив.
Семья, до рождения Гриши, состояла из четырех женшин, но полное отсутствие мужчин никого, кроме Мур, не беспокоило. Мур, привычно рассматривавшая свою дочь Анну как существо бесполое, бесцветное и годное только на торопливое ведение домашнего хозяйства, недоумевала, отчего ее внучка Катя так скучно живет. Удивительный для Мур факт: откуда дети берутся при такой полнейшей женской бездарности? Ну прямо как животные: е...ся исключительно для размножения...
Мур была относительно Кати глубоко неправа. У нее была на редкость удачная несчастная любовь, ради которой она и оставила своего первого невнятного мужа, и с предметом своей великой любви она изрядно мытарилась, родила от него Гришку и уже тринадцатый год бегала к своему совестливому любовнику на редкие свидания и откладывала с года на год момент настоящего, неодностороннего знакомства сына с тайным отцом. Семья - это святое, утверждал он, и Катя не могла с ним не соглашаться.
Безотцовщина, таким образом, стала в их семье явлением глубоко наследственным, в трех поколениях прочно утвердившимся. В голову ни Анне Федоровне, ни Кате, ни даже входящей в возраст Леночке не пришло бы в этот дом, целиком и полностью принадлежащий Мур, привести даже самого скромного, самого незначительного мужчину. Такого права Мур, полная великолепного пренебрежения к своим женским потомкам, за ними не оставляла. Анна Федоровна и Катя вполне смирились и с духом безотцовщины, и с женским одиночеством, а Леночка, девочка инфантильная как раз в той области, где с великой полнотой проявилась одаренность ее прабабушки, вообще об этом не задумывалась.
Тем острее почувствовала Анна Федоровна, как весь дом сошел с ума после первого же прихода Марека. Не только восьмилетний Гришка, но и дылда Леночка, в ту зиму почти уже дотянувшаяся до метра восьмидесяти, и сама Катя выбегали на звонок Марека с такой восторженной прытью, как будто за дверью стоял по меньшей мере Дед Мороз. Марек и держал эту безвкусную красно-белую ноту: над африканским загаром дымились ярко-белые кудрявые волосы, а вместо пошлого красного халата с белым ватным воротником был закинут вокруг шеи шерстяной шарф глубокого кровяного цвета и того высочайшего качества, которое материальные ценности почти превращают в духовные. Как и полагалось Деду Морозу, он был весел, румян и невероятно щедр на всякие угощения и подарки, а еше больше на обещания. Даже Мур проявляла к нему неумеренный интерес.
Давно не испытанное чувство личного унижения мучило Анну Федоровну. Марек, три дня тому назад вообще не знавший о существовании Гриши и Леночки, сегодня играл в их жизни такую роль: Леночка только о том и говорит, куда ей выехать на учебу, в Англию или в Америку, а Гриша бредит каким-то греческим островом, где у Марека дача - двухэтажная вилла, прислонившаяся спиной к розоватой скале и глядящая в маленькую бухту с белой яхтой, пришпиленной посредине залива, как костяная брошка на синем шелке... Гриша распотрошил альбомчик с Марековыми фотографиями, и цветные оттиски чужой нереальной жизни валялись по всей квартире, даже у Мур. Но, самое обидное, Катя ходила с дураковатой улыбочкой и даже немного подмурлыкивала, в точности как ее бабушка... Ко всему прочему совестливая Анна Федоровна мучилась еще и тем, что носит в себе такие низменные чувства и не может с ними справиться.
На работе у Анны Федоровны тоже было неприятное происшествие. Один из самых тяжелых пациентов последнего времени, поступивший не планово, а по травме, молодой милиционер, был прооперирован на редкость удачно, и с определенностью можно было сказать, что по крайней мере один глаз спасен. И на днях он перетащил в холле телевизор из одного угла в другой, и вся ювелирная работа пошла насмарку, возникли новые разрывы на сетчатке, и теперь было совершенно неясно, сможет ли она снова спасти глаз этому дураку...
В Москву Марек приехал по делам. Все дело его сводилось к одной-единственной встрече с медицинскими чиновниками, и назначена она была именно на первый вечер его пребывания. Речь шла о каком-то специальном оборудовании для послеоперационного ухода за больными, к производству которого он имел отношение. Как сам он сказал позднее, переговоры эти были для него предлогом, чтобы повидать дочь. Ту первую попытку наладить связь с бывшим семейством он не возобновлял все эти годы: он имел слишком большой опыт общения с советской властью и в ее русском, и в польском варианте.