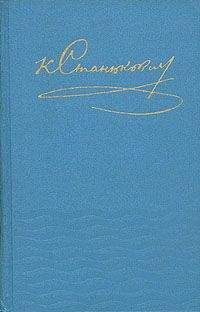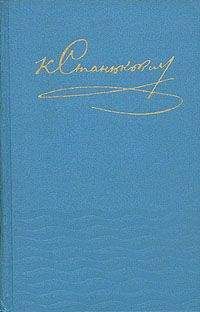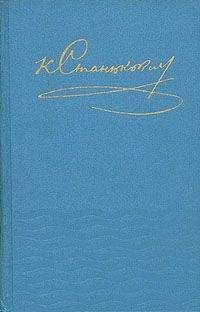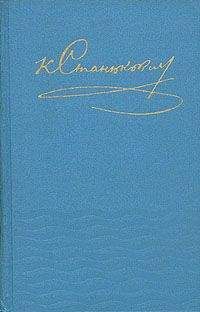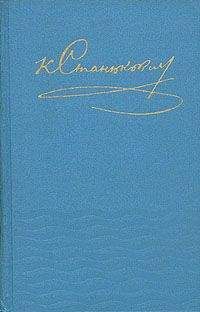Константин Станюкович - Избранные произведения
Маркушка жадно слушал старика и не мог сообразить, как это возможно, чтобы такой жидкий народ, как французы, мог прийти к Севастополю и чтобы наши не прогнали их немедленно, как только они высадились.
И хоть он и почувствовал, будто что-то неладно и французы могут прийти — недаром же «дяденька» допускал, что «старая лиса» сразу не прогонит, и недаром же барыни утекают, — но словно бы желая избавиться от этого чувства и подбодрить себя, Маркушка, взволнованный, со сверкавшими глазами, проговорил:
— Не отдадим, дяденька!
— То-то и есть… А это пусть опасаются которые трусы, Маркушка… Есть такие… Перевозишь… Наслушаешься разговоров… А ты, Маркушка, видно, прокатиться захотел? — спросил «дяденька».
Маркушка объяснил, зачем пришел. Он рассказал, как тяжело дышит мать и как долго кашляет, и, рассчитывая, что «дяденька» все знает, спросил:
— Ведь мамка не помрет? Вы как полагаете, дяденька?
— Зачем ей помирать? Она матроска молодая. Отлежится… Простуда и выйдет. Не сумлевайся, Маркушка… Молодца! Заботливый ты сынишка!
И «дяденька» потрепал Маркушку по спине и прибавил:
— Давай на «Костентин» смахаю. Отцу скажу, ежели пустят. Только вряд ли дозволят матросу на берег. Видел, какая спешка против француза…
— Спасибо, дяденька! — горячо промолвил Маркушка, тронутый предложением перевозчика. — Вот и катер отвалил с «Костентина». Попрошу гребцов… Прощайте, дяденька! Так мамка выправится, дяденька?
— Сказано — выправится! — уверенно ответил «дяденька», пожимая руку Маркушки.
И Маркушка побежал на Графскую пристань и спустился вниз.
Через несколько минут безукоризненной гребли двенадцати гребцов в белых рубашках на катере были сразу убраны весла, и катер, тихо прорезывая прозрачную синеву воды, остановился у ступеньки пристани.
Из катера выскочили два офицера — один постарше, другой молодой — и пожилой старший врач.
Увидав Маркушку, молодой мичман остановился и спросил:
— Ты что здесь делаешь, Маркушка?.. Иди за мной, чертенок. Опять дам записку снести, и получишь гривенник…
— Никак невозможно, Михайла Михайлыч!..
— Отчего?
— Мать очень больна и велела дать знать тятеньке на «Констентине»… Может, отпустят… хоть на полчасика. Попросите, барин, за тятьку. А я при мамке… хожу за ней.
— А как фамилия твоего тятьки?
— Ткаченко… фор-марсовой, ваше благородие!
Мичман достал из кармана книжку и карандаш, вырвал листок и на спине Маркушки написал просьбу отпустить на берег фор-марсового Ткаченко к умирающей жене.
«Умирающей» назвал добрый, жизнерадостный мичман для большей убедительности.
Он отдал записку унтер-офицеру на катере и велел немедленно передать старшему офицеру.
— Есть, ваше благородие.
А Маркушке мичман сказал:
— Твое дело сделано, Маркушка. Отца спустят на берег… Я прошу за него…
Маркушка благодарил.
— Доктор был у матери?
— То-то не был, ваше благородие.
— Дурак! Мне бы сказал. Иди за мной!
И, торопливо поднимаясь по лестнице, мичман кричал:
— Доктор! Иван Иваныч! Подождите!
Рыжеватый доктор остановился.
— Ну что вам, пылкий мичман?
— Не откажите, голубчик, посмотреть мать этого чертенка. Жена нашего молодца фор-марсового Ткаченки. Очень больна. Не встает с постели.
— Дюже исхудала! — вставил Маркушка.
Доктор спросил у Маркушки адрес и обещал быть скоро в матросской слободке.
— Так беги домой, Маркушка… И твой тятька и доктор придут… Обрадуй мать…
— И дай вам бог за вашу доброту, Михаил Михайлыч. Сколько вгодно буду носить вам письма.
— Скоро, Маркушка, не придется… А вот тебе гривенник… Купи себе чего хочешь.
Маркушка заложил монету для верности за щеку и пустился во весь дух домой.
Скоро, едва переводя дух, он вошел в комнату, положил на табуретку около кровати виноград и несколько груш и радостно произнес:
— И тятька придет… И дохтур будет… И дяденька-яличник сказал, что ты скоро оправишься — только вылежись, мамка! Дяденька понимает, не то что какие вороны…
Озноб у чахоточной прошел. Ей было лучше. Вести Маркушки значительно подбодряли матроску.
И, любуясь своим смышленым сыном, она с радостным восхищением проговорила:
— И какой же ты умный, Маркушка! И как ты все это обработал. Рассказывай… И откуда виноград?.. Откуда дули?.. Ишь побаловал мамку… Ешь сам, я немного…
— Не стибрил ли твой Маркушка у татар?.. Он у тебя, матроска, шельмоватый! — промолвила, тихо посмеиваясь, Даниловна.
— Вот и клеплешь, Даниловна… Ах, ядовитая ты какая!.. Это ты напрасно бога гневишь… Вовсе не хорошо… Мой Маркушка не таковский!.. — говорила, волнуясь и раздражаясь, больная.
— Брось, мамка… Пусть она брешет… Побрешет и уйдет! — презрительно кинул Маркушка.
И, не обращая ни малейшего внимания на старую боцманшу, достал из кармана штанов пару тарани и булку и сказал матери:
— Я, мамка, вот и тарани себе купил и булку для тебя… Попьешь с чаем… Знакомый мичман Михайла Михайлыч подарил гривенник… Страсть добрый… Встрелся на Графской… Он и исхлопотал, чтобы тятьку пустили к нам… Он и доктора испросил… Одним словом…
И, возбужденный, видимо торопясь рассказать матери все, что видел и слышал в это чудное сентябрьское утро, воскликнул:
— А что, мамка, в Севастополе!.. Француза-то допустили на берег в Евпатории…
— Допустили? — протянула чахоточная.
— То-то допустили… И Менщик со всеми солдатами там… прогонять… Сказывают, француз жидкий народ… Прогонит обманом, если их много… И на улицах матросы… Орудии с кораблей везли… Чтобы поставить их кругом Севастополя. А многие, которые дуры, барыни наутек, зря струсили. Разве Нахимов пустит француза в Севастополь? Дяденька так и сказал, что никак невозможно!
Отрывочные, возбужденные слова Маркушки взволновали больную в первые мгновения.
Но уверенность чахоточной, которая и не допускала мысли о том, что дни ее сочтены, слышалась в ее проникновенном голосе, когда она проговорила:
— Не придет француз! Он безбожник! Господь нам поможет… Наша вера угодней богу.
И, выпростав из-под одеяла исхудалую бескровную руку, матроска перекрестилась; ее губы что-то прошептали — вероятно, молитву и о Севастополе, и о скорейшей поправке.
Маркушка никогда не думал о таких деликатных вопросах. Он, разумеется, не понимал, чья вера лучшая, так как дружил и с «дяденькой», и со старым одноглазым татарином Ахметкой, который нередко угащивал Маркушку в своей фруктовой лавчонке и виноградом и попорченными фруктами, дружил и с портным евреем Исайкой, жившим в слободке, который дарил ему лоскутки, помог сладить большой змей и, посылая его с поручением, всегда давал три или пять копеек и в придачу еще — маковник или горсть рожков.
Но слова матери о французах были очень приятны Маркушке. Он перекрестился вслед за матроской и горячо воскликнул:
— Дай бог всех французов до одного перебить!
И, подсев к окну, стал чистить тарань, глотая слюни и предвкушая вкусную закуску.
Несколько минут царило молчание. Даниловна о чем-то загадочно думала, и злорадная усмешка кривила ее беззубый рот.
Старая, с угрюмым морщинистым лицом и злыми маленькими пронзительными глазами, похожая на ведьму, поднялась Даниловна с табуретки. Ее сгорбленная, приземистая и крепкая еще фигура выпрямилась и стала будто выше. И, обращаясь к больной, она заговорила, слегка шамкая, каким-то зловещим голосом:
— Видно, и милосердному конец терпению… Велики грехи Севастополя… И накажет за это господь… Ой, накажет!
Матроска беспокойно вздохнула. Она чувствовала, что Даниловна закаркает, и в то же время не спускала с нее жадно-любопытных и тоскливых глаз.
А Даниловна продолжала:
— Недаром дурачок Костя пророчил… Небось слышала, что говорил?
— Мало ли что брешет дурачок…
— Думаешь, мы умные? А он дурачок, может быть, блаженный, и бог ему внушает… Третьего дня его форменно «приутюжили» в полиции… А он никого не испугался… Поплакал и все свое бормочет… Неспроста, значит, говорит… И попомни, матроска… Быть великой беде… Не замолить грехов… Накопились на всех — и на вышних начальствах, и их барынях, и на матросах, и матросках… Господь и отступился… Может, князь Менщик изменщик перед нашим императором, ежели допустил высадку?.. Разве можно с моря допустить?.. Николай Павлыч прикажет Менщика в кандалы да с фельдъегерем прямо во дворец… «Как смел, такой-сякой, князь?..» А старый, что пустил француза, лукав, матроска… Отвертится от самого Николая Павлыча… Император не сказнит… А тем временем француз и турка нагрянут. Всех перекокошат. У француза такие ружья, что за версту бьют и заговоренные Бонапартом — антихристом… Наш солдат и не видит француза, а у солдата пуля в самое сердце… Убит… И как войдут в Севастополь, сейчас турка всех жителев прикончит… без разбора сословий… Только каких молодых заберут и на корабль… вроде как в крепостные пошлют турецкому султану… И все разграбят… И камня на камне не останется… Дьявол-то во всей силе с французами объявится… Бог все ему позволит… Пропадай, мол, грешный город!.. А ты: не придут! Жалко тебя, хворая, что не скоро тебе оправиться… Ушла бы из Севастополя со своим щенком. А я оставлю дом и… гайда… Не согласна пропадать… Прощай!..