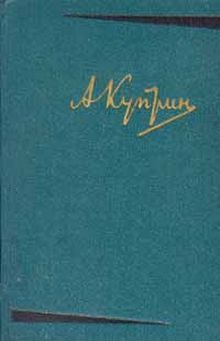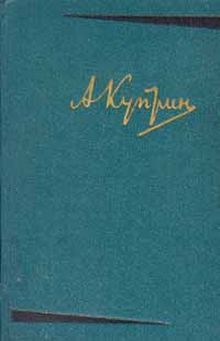Александр Куприн - Том 8. Произведения 1930-1934
В конце февраля Александров получил из рук Дрозда такое трогательное малюсенькое письмо, что его марка, казалось, покрывала весь конверт.
— Гм, — сказал Дрозд, — какая воробьиная переписка!
В строю решительно немыслимо заниматься чем-нибудь иным, как строем: это первейший военный завет. Маленькое письмецо жгло карман Александрова до тех пор, пока в столовой, за чашкой чая с калачом, он его не распечатал. Оно было больше чем лаконично, и от него чуть-чуть пахло теми прелестными прежними рождественскими духами!..
«На второй день Масленицы, в два часа пополудни, приходите на каток Чистых прудов. Я буду с подругой. Ваша З. Б.».
Ваша! О, господи! Ваша! Это словечко точно горячей водою облило юнкера и на минуту сладко закружило его голову.
В этот день первой лекцией для юнкеров старшего курса четвертой роты была лекция по богословию. Читал ее доктор наук богословских, отец Иванцов-Платонов, настоятель церкви Александровского училища, знаменитый по всей Европе знаток истории церкви.
Будучи на первом курсе, Александров с жадным вниманием слушал его поразительные лекции о римских папах эпохи Возрождения и о Савонаролле. Но теперь он читал о разрыве церквей, об исхождении святого духа, о причастии под одним или под двумя видами, о непогрешимости пап и о соборах. Эта тема была суха, схоластична, трудно понимаема.
Александров и вместе с ним другие усердные слушатели отца Иванцова-Платонова очень скоро отошли от него и перестали им интересоваться. Старый мудрый протоиерей не обратил никакого внимания на это охлаждение. Он в этом отношении был похож на одного древнего философа, который сказал как-то: «Я не говорю для толпы. Я говорю для немногих. Мне достаточно даже одного слушателя. Если же и одного нет — я говорю для самого себя».
У Иванцова-Платонова было много занятий в Троице-Сергиевской духовной академии, в разных богословских обществах, и, кроме того, ему едва хватало времени для издания и корректур его многих и замечательных книг. Он отлично знал, что в училище богословие считается предметом почти необязательным, экзамена по нему не полагалось. И он со спокойным равнодушием ставил всем юнкерам по двенадцати баллов. Также ему было все равно, чем занимаются юнкера на его лекциях. Он даже не глядел на них, произнося свои веские мудрые ученые слова… А юнкера в это время подзубривали военные науки для близкой репетиции, чертили профили и фасы, заданные профессорами артиллерии и фортификации, упражнялись в топографическом искусстве, читали книжки Дюма-отца или попросту срисовывали лысую, почти голую мощную голову прославленного пастыря. Требовалась только условная минимальная тишина, ибо Иванцов-Платонов готовился к ближайшей лекции в более серьезном месте.
Александров, как и всегда, сел рядом с Венсаном и протянул ему полученное письмецо. Венсан неторопливо с серьезным видом рассмотрел и отдал назад.
— Ну что же, Александров, ты — счастливец, — сказал он с дружеской улыбкой. (У них уже давно вошло в обычай говорить друг другу «вы» по делам училищным и «ты» — по делам дружбы, тонких чувств и любви.)
— Вчера, только вчера ты не осмеливался прикоснуться губами к ее фотографическому портрету, а, смотри, сегодня она тебе назначила рандеву на катке, где ты поцелуешь не кусок картона, а, может быть, живую теплую душистую перчатку на маленькой ручке. Ох, уж вы мне, скрипучие пессимисты!
— А погляди, погляди, — волновался Александров, — погляди, как она, мое божество, подписалась. «Ваша». Это значит — моя, моя, моя, моя. Моя.
Суровый реалист Венсан не согласился.
— Ваша — это не значит — твоя. Ваша или ваш — это только условное и не очень почтительное сокращение обычного окончания письма. Занятые люди нередко, вместо того чтобы написать: «теперь, милостивый государь мой, разрешите мне великую честь покорнейше просить Вас увериться в совершенной преданности, глубоком почтении и неизменной готовности к услугам Вашим покорнейшего слуги Вашего…» Вместо всей этой белиберды канцелярской умный и деловитый человек просто пишет: «Ваш Х.», и все тут.
Александров сделал кислое лицо.
— Ну вот, ты всегда такой практик. Все ты через серые очки видишь. А ты обратил внимание на подругу?
— Как же, обратил. Это, наверное, будет дуэнья, барышня постарше и понекрасивее, строгого характера, и потому я заранее отказываюсь от удовольствия сопровождать тебя на чистопрудный каток и занимать на морозе апатичную, неразговорчивую дурнушку.
— Ах, Венсан!
— Нет, голубчик, — смягчился дружок. — У меня на второй день Масленой недели тоже — приглашение и — тоже на каток, но только на Патриаршем пруду, от Машеньки Шелкевич, от моей прекрасной еврейки.
— Эх, пропало мое дело, — уныло сказал Александров и причмокнул языком.
— Почему пропало? Я хоть и реалист и практический человек, но зато верный и умный друг. Посмотри-ка на письмо Машеньки: она будет ждать меня к четырем часам вечера, и тоже с подругой, но та превеселая, и ты от нее будешь в восторге. Итак, ровно в два часа мы оба уже на Чистых прудах, а в четыре без четверти берем порядочного извозчика и катим на Патриаршие. Идет?
— Ах, дорогой мой, как ты хорошо распорядился! А у меня уж было печенки заболели. Ты добр и великодушен, бледнолицый брат мой.
— То-то.
В субботу юнкеров отпустили в отпуск на всю неделю Масленицы. Семь дней перерыва и отдыха посреди самого тяжелого и напряженного зубрения, семь дней полной и веселой свободы в стихийно разгулявшейся Москве, которая перед строгим Великим постом вновь возвращается к незапамятным языческим временам и вновь впадает в широкое идолопоклонство на яростной тризне по уходящей зиме, в восторженном плясе в честь весны, подходящей большими шагами.
Вчера еще Москва ела жаворонков: булки, выпеченные в виде аляповатых птичек, с крылышками, с острыми носиками, с изюминками-глазами. Жаворонок — символ выси, неба, тепла. А сегодня настоящий царь, витязь и богатырь Москвы — тысячелетний блин, внук Дажбога. Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всесогревающее солнце, блин полит растопленным маслом, — это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Блин — символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей.
О, языческое удельное княжество Москва! Она ест блины горячими, как огонь, ест с маслом, со сметаной, с икрой зернистой, с паюсной, с салфеточной, с ачуевской, с кетовой, с сомовой, с селедками всех сортов, с кильками, шпротами, сардинами, с семушкой и с сижком, с балычком осетровым и с белорыбьим, с тешечкой, и с осетровыми молоками, и с копченой стерлядкою, и со знаменитым снетком из Бела озера. Едят и с простой закладкой и с затейливо комбинированной.
А для легкости прохода в нутро каждый блин поливается разнообразными водками сорока сортов и сорока настоев. Тут и классическая, на смородинных почках, благоухающая садом, и тминная, и полынная, и анисовая, и немецкий доппель-кюммель, и всеисцеляющий зверобой, и зубровка, настойка на березовых почках, и на тополевых, и лимонная, и перцовка, и… всех не перечислишь.
А сколько блинов съедается за Масленую неделю в Москве — этого никто никогда не мог пересчитать, ибо цифры тут астрономические. Счет приходилось бы начинать пудами, переходить на берковцы, потом на тонны и вслед за тем уже на грузовые шестимачтовые корабли.
Ели во славу, по-язычески, не ведая отказу. Древние старожилы говорили с прискорбием:
— Эх! Не тот, не тот ныне народ пошел. Жидковаты стали люди, не емкие. Посудите сами: на блинах у Петросеева Оганчиков-купец держал пари с бакалейщиком Трясиловым — кто больше съест блинов. И что же вы думаете? На тридцать втором блине, не сходя с места, богу душу отдал! Да-с, измельчали люди. А в мое молодое время, давно уже этому, купец Коровин с Балчуга свободно по пятидесяти блинов съедал в присест, а запивал непременно лимонной настойкой с рижским бальзамом.
Но Александров блинного объедения не понимает и к блинам особой страсти не чувствует. Съел парочку у мамы, парочку у сестры Сони и стал усиленно готовиться ко вторичной встрече. Его стальные коньки, лежавшие без употребления более года в чулане, оказывается, кое-где успели заржаветь и в чем-то перепачкались; пришлось над ними порядочно повозиться, смазывая их керосином, обтирая теплым деревянным маслом и, наконец, полируя наждаком особенно неподатливые ржавчинки.
Когда же коньки были приведены в полный порядок, Александров вспомнил о том, что он уже давно, уже более года не занимался благородным спортом бегания на коньках. Надо было немедленно заняться необходимой тренировкой. Правда, девушки в конькобежном искусстве всегда стоят гораздо ниже молодых людей, однако Александрову приходилось дважды в своей жизни видеть совершенно обратные примеры, оба на большом катке Зоологического сада. Один раз это была датчанка, другой — суровая норвежская девица. В быстроте и выносливости их не мог победить ни один из московских профессионалов-мужчин. Но в фигурном заезде выше их по очкам оказывался каждый раз преподаватель гимнастики в Александровском училище — Постников, знаменитый московский спортсмен.
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера[Исторический очерк]](/uploads/posts/books/48021/48021.jpg)
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера [Исторический очерк]](/uploads/posts/books/50071/50071.jpg)