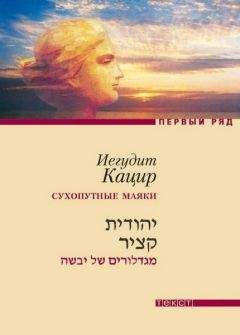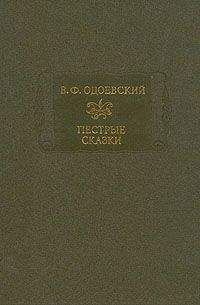Владимир Одоевский - Пестрые сказки
Именно в это время и сам Гоголь делает первые наброски своей повести «Нос», идея которой, несмотря на существовавшие уже и хорошо известные европейские сюжетные аналоги (Шамиссо, Гофман), была без сомнения непосредственно «спровоцирована» «Сказкой…» Одоевского — уже самый зачин гоголевской фантастической истории, прямо объявляющий «тайну», безошибочно адресует нас к экспозиции «Сказки о мертвом теле…»: «Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно-странное происшествие…». Другое дело, что Гоголь развивает по-своему идею и Пушкина, и Одоевского, обозначая в свою очередь в повести о злосчастном майоре Ковалеве «угол отклонения» и от того, и от другого. Так, обращаясь к сюжетной схеме о потере человеком части своей плоти, своего «я», он интерпретирует ее вовсе не как курьез или нелепицу, разрешающуюся снятием «тайны», пробуждением хватившего лишку героя. Правда, снятие «тайны» и у Одоевского все же частичное: «реликты» ее в рассказе остаются в виде распространившихся слухов — фантастической трансформации курьеза в народном сознании: «…в одном соседнем уезде рассказывали, что в то самое время, когда лекарь дотронулся до тела своим бистурием, владелец вскочил в тело, тело поднялось, побежало и что за ним Севастьяныч долго гнался по деревне, крича изо всех сил: „Лови, лови покойника!“
В другом же уезде утверждают, что владелец до сих пор каждое утро и вечер приходит к Севастьянычу, говоря: „Батюшка Иван Севастьяныч, что ж мое тело? Когда вы мне его выдадите?“ и что Севастьяныч, не теряя бодрости, отвечает: „А вот собираются справки“». Именно этот прием использовал в концовке и автор «Носа».
Отказывается Гоголь и от более сложной формы причинно-следственных связей реального и ирреального, продемонстрированной Пушкиным в «Гробовщике». Намереваясь вначале также прибегнуть к мотивировке событий, описанных в «Носе», сном, Гоголь в окончательном варианте повести уходит и от этого соблазна. Решительно порывая с романтической «тайной», он создает совершенно особый тип фантастической повести, образец «немотивированной», «неразрешенной» фантастики.
Думается, в истории литературы узел этот, в котором столь тесно переплелись вдруг творческие интересы трех писателей, уникален. И не случайно, конечно, «Пестрые сказки» изобилуют постоянно возникающими на их страницах скрытыми или прямыми цитатами из произведений Пушкина и Гоголя, как не случайно и то, что в творческой лаборатории, из которой они вышли — черновиках «Жизни и похождения… Иринея Модестовича Гомозейки» и примыкающих к ней набросках, — мелькают имена и ситуации, вряд ли по простому совпадению перекликающиеся с гоголевскими. Так, один из намеченных, но почему-то оставленных фрагментов «Жизни…» представляет собой комический, прямо-таки «гоголевский» диалог двух персонажей, одного из которых зовут Иваном Никифоровичем, и речь здесь идет о его ссоре с неким Богданом Федоровичем, — точь-в-точь как в известной повести Гоголя. Более того, для иронической характеристики своих героев оба писателя используют один и тот же прием (у Одоевского: «Иван Никифорович? он прекраснейший человек…». У Гоголя: «Прекрасный человек Иван Иванович!»). О первичности этого замысла судить сейчас трудно, так как этапы длительной работы Одоевского над автобиографической «хроникой» поддаются лишь общему, но не детальному хронологическому определению. Начальные ее наброски предшествуют «Пестрым сказкам», последние же фрагменты — в том числе и тот, о котором идет речь, — скорее всего, появились уже после выхода сборника в свет, т. е. начиная с 1833 г. — времени, когда, по мнению исследователей, была создана «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Так или иначе, но и эта синхронность — еще одно несомненное свидетельство интенсивных творческих контактов писателей. Между прочим, в другом, также относящемся к началу 1830-х гг. отрывке Одоевского под названием «Причина пожаров» также усматривается некая перекличка: дядя Ириней ведет здесь беседу с маниловскими крестьянами (выделено мною. — М.Т.). Отрывок этот, вероятнее всего, был написан прежде, чем Гоголь приступил к созданию «Мертвых душ»: в таком случае фамилия Манилова вполне могла быть подсказана ему Одоевским.
И хотя это столь очевидное взаимовлияние ознаменовано прежде всего принципом «притяжения — отталкивания», свое родство тем не менее остро осознавали сами участники «триумвирата» — точнее, два младших «триумвира», шедших по пятам старшего. Следствием этого и явилась идея альманаха «Тройчатка», предложенная Одоевским и Гоголем Пушкину.
Однако прежде чем перейти к рассказу об этом замысле, необходимо остановиться еще на одном произведении Одоевского этой поры, безусловно примыкающем к «Пестрым сказкам» и по своей структуре, и по художественным задачам, хотя формально в этот цикл и не включенном. Мы имеем в виду «Историю о петухе, кошке и лягушке», получившую это окончательное свое название лишь в 1844 г. в «Сочинениях», но впервые появившуюся в печати через год после «Пестрых сказок» как «Отрывок из записок Иринея Модестовича Гомозейки», за той же подписью, что и недавний цикл: «В. Безгласный». Симптоматично, что Белинский, с расстояния лет, в своем разборе «Пестрых сказок» ошибочно, но справедливо по существу первым среди «прекрасных юмористических очерков» цикла назвал «Историю о петухе, кошке и лягушке».
Прежде всего, этот рассказ также вышел из недр «Жизни и похождений… Гомозейки». Одну из глав «хроники» Одоевский собирался посвятить вступлению своего героя в службу — опять же в провинции, секретарем под начало губернского полицмейстера Ивана Савельевича Прохорова. В черновых набросках повествуется о том, с каким рвением «ученый» секретарь Гомозейко принялся за свое дело, как составил по разным иностранным источникам проект городского благоустройства, мечтая поставить губернский город «на европейскую ногу», и как заслужил даже за скромные свои старания полицмейстерскую выволочку и звание «карбонария».
Здесь же должен был помещаться и «…рассказ о лягушке, кошке и проч.», из которого и вырос «Отрывок…», отделанный для журнала как самостоятельная история. Неудивительно поэтому, что действие в нем, как и в «Сказке о мертвом теле…», происходит в Реженске. Сближает оба произведения и манера повествования — однако не только она: очевидная близость «Отрывка…» к циклу гораздо шире.
Примечательно, что движение сюжета здесь — история городничего Ивана Трофимовича Зернушкина — основано, как и в «Игоше», на двух действительно бытующих народных поверьях: об «околдованной» мельнице, в силу чего Марфа Осиповна и появляется в доме своего дальнего родственника Ивана Трофимовича, и переданная ею последнему примета относительно кошки, способной якобы нашептать жабу в голове. Этот в высшей степени важный для понимания художественного метода Одоевского прием органически сочетается с мастерски нарисованной картиной сонного, захолустного, «дремучего» Реженска, усиливая впечатление абсолютной подлинности описаний, воспринимаемых как зарисовки «с натуры». Именно «панорама» Реженска в первую очередь соотносится с автобиографической «хроникой», где аналогичная картина запечатлена почти тождественно. Тем не менее в сугубо, казалось бы, бытовом повествовании присутствует весь комплекс идей, отличающих «Пестрые сказки». Здесь так же, как и в «Сказке о мертвом теле…», — однако словно мимоходом вкраплен «фантастический» элемент — опять же в виде «страшных снов», мучающих Ивана Трофимовича, который излечивается от своего недуга кизлярской. Сны эти, правда, не несут никакой функциональной нагрузки, но они интересны своей стилистикой, фантасмагорической трансформацией жизненных реалий — точно так, как происходило это в «страшном сне» пушкинского гробовщика: Зернушкин видит себя в облике жабы, пытающейся натянуть на себя сюртук; по улицам — «не люди, а лягушки на задних лапах и с ножки на ножку переваливаются», а в голове несчастного городничего — «целый город Реженск». Но особенно останавливает внимание отчетливый естественнонаучный фон рассказа, с фигурой уездного лекаря, в «биографии» которого без труда угадываются автобиографические детали — молодая увлеченность самого писателя духом эксперимента и естественнонаучного поиска, и, наконец, развязка истории Зернушкина, излеченного в конце концов от своей фобии методом психического воздействия, аналогично опыту знаменитого врача Бургаве.
Но вернемся, однако, к замыслу альманаха «Тройчатка».
28 сентября 1833 г. Одоевский писал поэту в Болдино: «Скажите, любезный Александр Сергеевич: что делает наш почтенный г. Белкин? Его сотрудники Гомозейко и Рудый Панек по странному стечению обстоятельств описали: первый — гостиную, второй — чердак; нельзя ли г. Белкину взять на свою ответственность — погреб, тогда бы вышел весь дом в три этажа и можно было бы к „Тройчатке“ сделать картинку, представляющую разрез дома в 3 этажа с различными в каждом сценами; Рудый Панек даже предлагал самый альманах назвать таким образом: „Тройчатка, или Альманах в три этажа“, сочинение и проч. — Что на это все скажет г. Белкин? Его решение нужно бы знать немедленно, ибо заказывать картинку должно теперь, иначе она не поспеет и „Тройчатка“ не выйдет к новому году, что кажется необходимым».