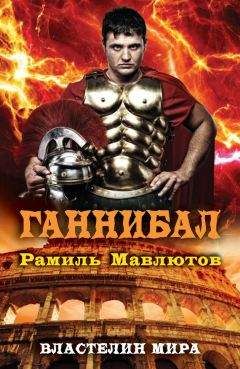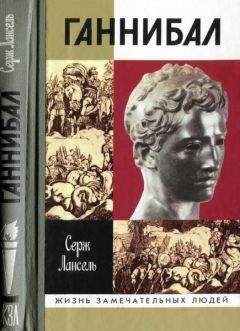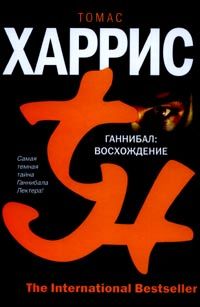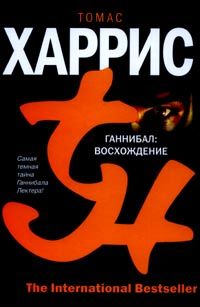Зинаида Гиппиус - Том 4. Лунные муравьи
Вечером мачеха мне объявила;
– Знаешь что? Это что-нибудь не так. Поеду я сама к этой Маше, поговорю с ней. Надо убедить ее, что не бросают людей на произвол судьбы. Одним словом, надо действовать.
Я покачала головой в раздумье.
– Вряд ли что-нибудь выйдет из этого, мама. Впрочем, попытаемся. Я отправлюсь с вами. Анюте ничего не говорите.
XIIIСеренький домик в переулке был все тот же, только железные драконы еще больше заржавели, дощечка с фамилией Марьи Платоновны потускнела, сады по сторонам домика разрослись гуще. В комнатах тоже ничто не изменилось: диван, стулья, цветы на окнах… Марья Платоновна теперь жила одна, а так как квартира ей была велика, то она отдавала комнаты жильцам.
Марья Платоновна поднялась нам навстречу и, прихрамывая, сделала несколько шагов.
Мне казалось, что я ее видела вчера. Белое лицо, широкий подбородок, на голове наколка, серые глаза навыкате смотрят непроницаемо.
– Извините, – сказала мачеха, рекомендуясь. – Имею удовольствие видеть Марью Платоновну Тэш? Я желала бы поговорить с вами.
– Секретно? – спросила Марья Платоновна хладнокровно и взглянула на меня. Меня она как будто не узнавала.
– Дело касается некоей Анюты Кузьминой, – поспешно прибавила мачеха.
Марья Платоновна и тут не выказала удивления.
– А-а! – протянула она. – В таком случае переговорить и здесь можно. Позвольте вас познакомить… – Она протянула руку направо. – Мой жилец, господин Бутлякин. Он нашему разговору не помешает, m-lle Кузьмину он знает хорошо.
Из-за покосившейся корзинки с горшками цветов поднялся очень упитанный молодой человек. Он яростно взмахнул волосами, сделал движение всем корпусом, как бы удерживая падающую одежду, и, наконец, подал нам руку.
Его шевелюра и оригинальное движение показались мне знакомыми, а в следующее мгновение я, к ужасу, открыла, что этот отъевшийся малый – волосатый юноша, который на злополучном бале Горляковых бил меня по рукам, отдавливал ноги и вообще омрачал мое существование. Я живо вспомнила и залу, и сухую Горлякову, и Петины шутки с Анютой. Нехорошим прошлым повеяло на меня. Нет ничего милее воспоминания о прошедших радостях, но зато все дурное, стыдное в прошлом ранит сердце глубоко даже при мимолетной мысли, и порою самое невинное делается на всю жизнь таким дурным воспоминанием.
Марья Платоновна обернулась к Бутлякину.
– Что же вы, Любим Иванович? Присядьте ближе. Вот сюда, на кресло.
Мне почудилось, что в серых выпуклых глазах хозяйки мелькнула нежность. Но, верно, это мне только почудилось.
Начался разговор. Мачеха горячилась. Г-жа Тэш, напротив, возражала спокойно и холодно.
– Но ведь согласитесь, – говорила мачеха, – что жестоко оставлять эту девушку без помощи, если ее постигло несчастие.
– Кого же вы в ее несчастии вините, сударыня? Ей дано образование, воспитание, она, можно сказать, стоит на своих ногах. Родители ее дали ей все, что могли. Они люди небогатые. Мои средства более чем скромны, и я, при желании, не могу помочь ей… Работать, работать и работать – вот что следует посоветовать этой жалкой девушке… Она ленива…
– Совсем не ленива! – вскрикнула мачеха. – Но как вы не понимаете, что ей, при ее наружности, невозможно сыскать труд, мало-мальски соответствующий ее воспитанию? Она убогая, ее призревать нужно, а не выгонять из дому!
Марья Платоновна прищурилась и слегка насмешливо посмотрела на свою собеседницу.
– Вот вы бы, сударыня, – проговорила она, – если принимаете в ней такое участие, и призрели бы убогую, взяли бы ее к себе совсем.
Мачеха смутилась.
– Я не имею возможности… – начала она.
– Ну, так вот и каждый не имеет возможности, сударыня. Очень, очень жалею, что не могла вам ничего сообщить приятного… и утешительного для подруги вашей дочки, – прибавила она сухо, обернувшись ко мне.
Мы встали и начали прощаться.
– Плохо дело! – сказала мачеха, когда мы вышли.
Я не отвечала. Я уже рада была и тому, что дышу чистым воздухом.
XIVО нашем неудачном визите Анюта ничего не знала. Пока она жила у нас. Затруднения не разрешились, но о них молчали.
Иногда Анюта поспешно надевала свою драповую кофточку, завязывала платок и через заднее крыльцо куда-то исчезала. Возвращалась иззябшая и молчаливая. Мы догадывались, что она искала работы. Ей было тяжело у нас жить и она старалась сократиться до последней возможности.
Она никогда не соглашалась лечь в залу или в мою комнату. Из передней в кухню вел маленький темный коридорчик, такой темный, что и днем там можно бы расколотить лоб, если бы не падало несколько лучей света из четырехугольного отверстия, проделанного в кухонной двери, наверху. В это отверстие, по странной фантазии, хозяин квартиры вставил темно-желтое, оранжевое стекло, и коридорчик был полон неожиданным, металлическим сумраком.
В одном углу коридорчика стоял наш большой дорожный сундук с горбатою крышкой. Анюта нигде больше не соглашалась спать, кроме этого сундука. Каким образом она умудрялась устраиваться на своем выпуклом ложе, я не знаю. Она не брала матраца, ничего, кроме маленькой подушки. Покрывалась она старым пледом, который я ей подарила.
– Я хотела вам сказать… – робко произнесла Анюта, входя в залу, где сидела я с мачехой. – Я придумала…
– Что такое ты придумала? Насчет чего?
– Мне ведь нельзя все здесь жить, да и вы уедете скоро… А я куда пойду? Дела никакого моего никому не нужно… Да и сама я убогая… Ну, Богу и послужу… Я искренно… Я в какую-нибудь общину поступлю.
Мы переглянулись. Что ж? Это прекрасная мысль.
– Только ведь трудно там, Анюта, – сказала мачеха. – Черную работу вас заставят…
– Господи! Да что мне черная работа! Лишь бы сил хватило. А зато угол свой будет, вечный, никуда не прогонят.
– А вы не знаете еще, в какую общину? Не справлялись?
– Нет. Мне как же самой? Я хотела вас попросить.
Мачеха согласилась разузнать дело и опять приняться за хлопоты. Она хлопотала было об определении Анюты в какой-то приют, но там, конечно, отказали, узнав, что девушка здорова, с дипломом и может работать.
Мачеха ездила и туда и сюда. Результат ее поездок был самый неутешительный. Выслушав историю Анюты Кузьминой, никто ничего определенного не говорил, все тянули, и кончалось дело непременно тем, что во всяком случае необходим взнос, рублей сорок-пятьдесят, а без этого в общину не принимают.
Анюта совсем упала духом, когда мачеха вдруг вспомнила, что у нее тетка заведует одною общиной в провинции.
– Напишу я ей, – решила мачеха. – Она и без взноса примет.
Письмо было отправлено самое подробное.
Между тем наступили заморозки. Несколько раз выпадал снег.
– Вот ты все, сударушка, работы искала, – объявила раз Домна, обращаясь к Анюте, – так у нас на втором дворе поденщицу ищут. Двух им, слышь, нужно. Случай такой – белья много. Я за тебя пообещалась. Пойдешь, что ль, стирать?
Анюта встрепенулась.
– Пойду, пойду, Домна… Вот спасибо тебе… Шесть гривен или пятьдесят?
– Шестьдесят пять на ихнем! – с торжеством проговорила Домна. – Уж я тебе дурно не посоветую…
Мы воспротивились. Холод, придется на речку ехать. Что за неблагоразумие!
Анюта молчала. Но на другой день ее и следа не было на горбатом сундуке; она ушла стирать.
XV– Скажите, доктор, это что-нибудь серьезное?
– Я подозреваю инфекционное заболевание. Но не беспокойтесь, случай не серьезный. Если даже и «тифик», то в очень легкой форме.
Мачеха всплеснула руками.
– Тиф! Дождались! Что ж, теперь ее в больницу надо.
– Я бы вам не советовал, – сказал доктор, – напрасно только растревожите. Если оставите больную дома, она очень скоро поправится.
– Что же, она простудилась?
– Нет, скорее это заразное… В соединении с неблагоприятными условиями, конечно.
– Батюшки-светы! – вскричала Домна, которая была тут же. – Уж не прилипло ли ей оттуда, где она поденно-то была? Там, говорят, барин молодой болен и белье-то его давали.
Мачеха рассердилась.
– А все ты, все ты! Спасибо тебе, Домнушка, удружила, привела в дом болезнь!
Домна ушла в отчаянии, кивая головой и повторяя:
– Вот грех, вот грех!
Я слышала, что сказал доктор, и не без внутреннего удовольствия решила быть горничной. Я перевела Анюту в свою комнату и сама принялась ухаживать за нею.
Дело было не легкое. Анюта, как я ее ни уверяла, что опасности никакой нет, по целым дням рыдала, говорила, что умирает, что не хочет умирать, и беспрестанно требовала доктора. Мои заботы она принимала как должное, капризничала и вообще совершенно изменилась характером. Довольная своим героизмом, я старалась переносить ее выходки терпеливо.