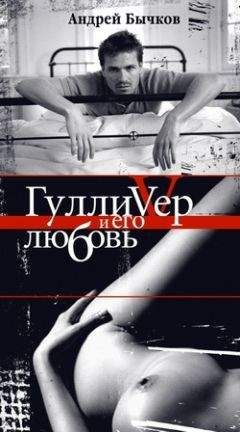Алексей Ремизов - Том 9. Учитель музыки
Не веря, я еще раз взглянул в окно – из серого, как из облаков, подымали руки зимние сырые платаны, а там – голубое…
И отлегло на сердце. Мой мир со мною! И никакой «случай», никакая «доля» не может его отнять у меня.
2. Аэр123За чаем с брусничным вареньем из гранбери Корнетов продолжает свой рассказ – «для портрета». Его гость, Ганс Крейслер, внимательно прослушавший «тло» и заметивший в своей записной книжке значение этого слова, как «дно», а в скобках «поддонное Корнетова», превратился в неслышного гнома, по-русски «лешака».
* * *Первый Достоевский, вспомнив Маркиза де Сад, в первый раз в «Униженных и оскорбленных» (1861 г.) заговорил о «чистосердии».
«Если бы только могло быть (чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может), если бы могло быть, чтобы каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтоб не побоялся изложить не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, – то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться».
Достоевский иллюстрировал такое «чистосердечие» признаниями Валковского, Свидригайлова и Ставрогина (Карамазовы, эта сладковатая кровяная колбаса из Валковского, Свидригайлова и Ставрогина, ничего не прибавят); и Валковский и Свидригайлов и Ставрогин существуют с тех пор, как мир существует, угрызений совести у них никогда не было ни о чем, сама природа им покровительствует, и весь мир может когда-нибудь провалиться, но они всплывут – «они всегда всплывут наверх».
Достоевский «чистосердечно» рассказал не только про это «облюбование мясца», но и про «облюбование мысли». «Чистосердечное» описание «тайны природы», как выражается сам Достоевский, нашло блестящего последователя: Розанов. Да и «куриная запятая» у Джойса и Лоренса не без Достоевского. Я уверен, что и Джойс и Лоренс читали Достоевского. Ведь вот никому в голову не приходило, а это касается «облюбования мысли», что Ницше читал и «Записки из подполья» (1864 г.) и «Преступление и наказание» (1866 г.), где, как известно, о «сверхчеловеке» все сказано.
Я не буду рассказывать о «тайне природы». Не скажу, чтобы «смрад», это уже чересчур, но признаюсь после Розанова, Джойса и Лоренса пальцы липнут и, точно белки сбиваешь, такой воздух. Попробую еще рассказать, как я узнал мир или как мир меня узнал, что одно и то же. Я называю рассказ мой словом «аэр» – на старинных гравюрах с подписями таким именем подписывалось то пространство над землею поверх воздуха, теперь все знают, стратосфера.
* * *Я не знал, что я родился с кротиной природой, что не на земле и днем, а под землей во мраке моя стихия, и несу всю судьбу моей природы. Ночными глазами я смотрел на мир – и самая ровная дорога шла передо мной валами, ближайшие дома уходили глубоко в землю, а все, что было дальше, висело над фонарями, крыши поднимались под облака, из труб вылетали черные птицы, и те же самые птицы, но уж не черные, – звезды усаживались на фабричные трубы, когда ночь распахивала огненные жерла окон.
Я был живым свидетелем призрачности мира, на мне оправдывались примеры философов о недостоверности наших чувств. Я мог бы за Гоголем повторить слово в слово: «да, все обман, все мечта, все не то, чем кажется». Брошенная на дорогу палка, с которой Шопенгауэр начинает свое исследование о мире-представлении, для меня действительно превратилась бы в змею, и положенная в головах свитка, от нее Гоголь ведет свою повесть о волшебном мире мары на нашей грешной земле со свиными рожами, мешками золотых черепков, помойными котлами кладов, разлучными гусаками, шинелью, коляской, носом, ревизором, игроками и мертвыми душами, была бы для меня не свиткой, а «свернувшимся дьяволом». То же и с обманчивостью звуков, с них Гоголь тоже начинает свою повесть о наваждении или оморачивании – об отводящей глаза человеку страсти, да я побледнел бы вместе с Черевиком и Цыбулей, услышав при страшном рассказе какой-нибудь неясный звук «весьма похожий на хрюканье свиньи» и надо было бы Хавронье Никифоровне, не поддавшейся страху, отрезвить меня: «один кто-нибудь, может, прости Господи, угрешился; под кем-нибудь скамейка заскрипела, а все и метнулись, как полоумные».
Дневной солнечный мир сам нашел меня и показал себя своей бесчувственной, безвоздушной слепой стихией – меру же и распределение я узнал потом через очки и уравновесил мой собачий слух.
* * *Когда мне было два года, я захворал скарлатиной. Доктор нашел, что не выживу. Но я поправился. И день моего выздоровления соединяется у меня с памятью о ванне. Я очень хорошо помню зеленую теплую ванну с трухой. Меня посадили в нее распухшего и задыхающегося, и вдруг я затих: глотая воздух, как рыба, я перебирал пальцами траву, стараясь поймать, и удержу в руке скользящие теплые струи. С тех пор я различаю воду и не глазами, а изнутри; потом уж я увидел ее и полюбил в Океане – прародине моей и всех жизней.
Когда мне было шесть лет, умер отец. Это случилось в середине мая. Я помню ярко – зеленую весеннюю траву на дворе дома, а день был пасмурный. И в церкви, когда я подошел прощаться, и меня подняли над гробом, и близко наклонили к лицу, я помню: белое, такой лунной белизны я только раз видел, и холодное лицо, и по белому струйка густой крови от носа к подбородку. Зеленая трава, застывшее белее белого лицо, сползающая кровь – сказались во мне словом молитвы, которую я впервые услышал: «земля еси и в землю отъидеши». С тех пор я различаю землю, и никак не могу ее представить себе горсткой песчинок, которую гордый лунный «Гоголь» поднял со дна Моря для солнечного Демиурга, чтобы сделать над водой настилку – «сотворить землю», но всегда в цвете весенней зелени до зелени лунной и в теплоте крови до льда камня.
Вскоре я узнал огонь, но не так, как бы мне подходило по спутанности моих глаз, – я не схватился за пламя свечи, я не сунул руку в жаркую печку, нет, я его узнал глазами. Меня разбудили рано утром: пожар!
И прямо с кровати в одной рубашке я подбежал к окну: напротив горел сахарный завод. И я увидел глаза: их было много, и все они, как один, с голубыми белками зеленые – они закрывались и раскрывались, нестерпимые по своему жгучему взгляду. Раньше я никогда не плакал: я кричал от боли и закатывался в сухих рыданиях, но этот взгляд меня прожег до крови, и я заплакал: это были первые слезы.
Нас, «уличных», подобралась стая самых озорных. Из всех я был младший, – мне только что исполнилось семь. Коноводить я не мог, да и куда мне с моими глазами, меня и прозвал «крот», но, оставаясь в стороне, я никогда не плелся в хвосте, я был зажигой: я затевал самые рискованные головоломные затеи. И мои товарищи, доверяясь мне, не раз попадали в дураки, но бывало и хуже, и как часто подбитые под глазами фонари выдавали всех с головой. А меня это очень занимало, и не было ничего такого, перед чем бы в затеях моих я остановился.
На фабричном дворе, где мы жили, перестроили один корпус под квартиры служащих. Под крышей был просторный чердак со слуховым окном. Этот чердак мы облюбовали для голубей. И, прежде всего, соорудили западню: перед окном устроена была площадка, наверху окна укреплена сетка, – можно и опустить и можно поднять, как хочешь. Теперь надо заметить, когда по соседству гоняют, но чтобы голубей было немного, и выпускай своих; голуби обыкновенно пристают к стае, и какому-нибудь новенькому легко ввиться в твой круг; а когда нагоняются свои и опустятся на площадку перед окном, тут и приставший за ними, дергай веревку, опускай сетку, – голубь твой. По чести, надо бы вернуть его хозяину, но почему-то «хозяева» никогда приставшего не возвращают, а выдержав на своей голубятне, выдают за своего, если только сам он домой не явится. И это тоже надо в расчет принять: голубь памятлив – его и продать можно без всякого риска: вернется.
Вот как мы все наперед сообразили; и какая голубятня! А голубей у нас не было. А скоро установилась за нами кличка «голубятников»: всякое воскресенье, после ранней обедни, мы отправлялись с кошелкой на Трубу и там бродили, присматриваясь и приторговывая голубей. И ни для кого не было тайной, что единственный способ иметь голубей было для нас: украсть. А это-то и не удавалось: торговцы никогда не оставляли нас одних.
Какими чудесами, все равно, только в «шкуле», где хранились бабки, обнаружилось несколько двугривенных, а Крышов, самый ловкий из нас, хвастал, что купил себе серебряные часы «по случаю». И на эти чудесные деньги были куплены голуби. А месяца через два мы имели полный завод: одних выменивали в надежде, что вернутся, – они и возвращались; других продавали, в тот же день подманивали; появились и выводки; и всякой масти – и серые, и белые, и хохлатые, и мохноногие, и палевые, и турмаки, кувыркающиеся при полете. И только не было, и об этом только и было разговору: египетских. Никто их никогда не видал, но заправские голубятники на Трубе не раз поминали, как особенную редкость: египетские, которым и цены нет. И мы рассчитали, что если продать всех наших голубей и всех подманить, и еще раз продать, хватит и на египетских.