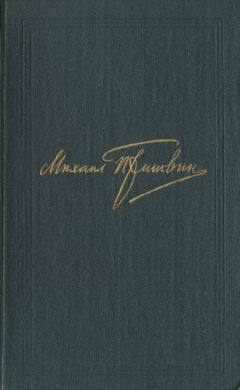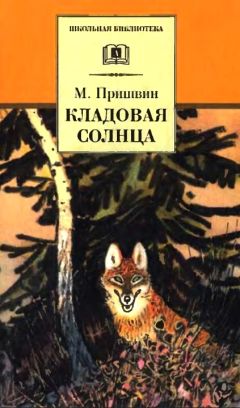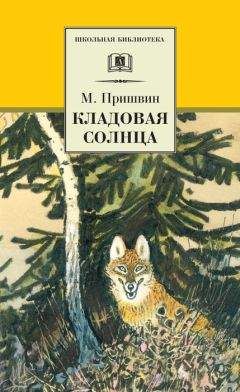Михаил Пришвин - Том 5. Лесная капель. Кладовая солнца
Тогда общественное мнение всего базара резко раскалывается на две части: кто стоит за старика, выходит – он за прошлое, кто за мальчишку – за будущее.
Но разве в старике драчуне наше прошлое или в воришке базарном наше будущее?
Много за двадцать шесть лет советской власти наслушался я таких споров, и, признаюсь, я, сам старик, соблазнялся нашим далеким старым временем и, жалея окруженного дерзкими мальчишками старика, со стесненным сердцем вспомнил своего дядю Ивана Ивановича. Был я тогда тоже маленький и шустрый мальчонок и раз вижу, седой этот старик, мой дядюшка, сидит на камне и покуривает из длинного рыжего тростникового мундштука. Он приласкал меня, а я воспользовался его добрым расположением и говорю:
– Вы, дядя, затягиваетесь, когда курите?
– Конечно, – отвечает, – затягиваюсь. Без этого не куренье.
– А что, – спрашиваю, – наверно, это очень приятно – затягиваться?
– Попробуй, – говорит, – на, затянись.
И подает мне мундштук. Я безпамяти от радости спрашиваю:
– А можно в нос выпустить?
– Конечно, – говорит, – можно, затянись поглубже во весь дух и выпусти в нос.
Тогда затянулся я, и закружилась у меня сильно голова, и начало меня изнутри всего выворачивать, а когда стал я в себя приходить, дядя мне опять мундштук подает.
– Ну-ка, – говорит, – затянись еще…
– Нет, – отвечаю, – спасибо тебе.
И седой этот дядя мой, настоящий мудрец, как ни в чем не бывало покуривает и с доброй улыбкой своей меня поглаживает по головке.
Так этой добротой своей и незаметным для меня наказанием направил меня старик на всю жизнь и сердечной мыслью своей связал два поколения: его и мое. Теперь я, сам старик, часто поминаю добром своего дядю Ивана Ивановича.
И когда слышу теперь на базаре обычный спор старого с новым, начинаю разбираться в себе и понимать, почему этот спор.
Мне представляется большая наша прежняя гуртовая дорога, и по ней во всю ширину ее люди бегут куда-то вперед и спешат друг перед другом. Никому нельзя в этом движении остановиться и оглянуться на прошлое. Кто стал, тот и остался навсегда верстовым столбом.
Только я, кажется мне, какой-то не как все: в моей власти и бежать со всеми вперед, и остановиться отдохнуть, и поглядеть немного назад.
И так я останавливаюсь, оглядываюсь и узнаю назади лица знакомых людей, и среди них очень хороших, вроде как этот дядя мой Иван Иванович. И так жалко мне их всех, и так хочется мне им всем помочь.
А когда после этого погляжу в будущее, куда все бегут, то, конечно, отстаю, вижу всех взад, и ничего ни о ком еще сказать не могу. Потому именно, что не могу их догнать и в лицо заглянуть.
XVI. Солдат в печкеКогда наши все ушли на войну, я остался один. В то время я уже не служил, а определился на пенсию. Казалось поначалу – не миновать мне участи верстового столба при дороге, но вот сила жизни отрывает меня от лица прошлого и заставляет обочинкой тоже трусить, как могу, в будущее со всеми вперед.
Когда все ушли, я, старый слесарь, взял себе добровольно нагрузку следить за участком нашей узкоколейки, перевозящей торф в город на фабрику. Этим посильным трудом я и достигаю того, что хоть не стою на месте.
Ранним утром, чем свет, выхожу я на линию с винтовкой за спиной и молоточком постукиваю по рельсам. Там подтяну болтик, там навинчу ослабевшую гайку. По сторонам возле осушительных канав разрослись буйные кусты, почти непроходимые, и особенно в оврагах, через которые переброшены мостики. Тут возле мостиков я спускаюсь вниз и осматриваю все очень заботливо, сам поглядываю в кусты и винтовку на плече всегда чувствую.
После тревога моя оправдалась. В одном таком овраге в кустах поймали настоящего диверсанта. При нем была даже радиостанция со всеми принадлежностями дальней передачи на короткой волне.
Так вот, с первых же дней войны каждое утро иду я по линии, постукиваю своим молоточком по рельсам. И в тот же час по уговору нашему из города выходит навстречу мне Мирон Иванович, тоже дорожный мастер, моих же лет доброволец, такой же неугомонный старик. В полдень на полпути мы с ним сходились на разъезде и отдыхали. К нам покурить всегда присоединялся будочник. На лавочке в его садике мы обыкновенно и сидим, покуриваем, а на хворосте, на большой куче, усаживаются отдыхать все прохожие.
– Ну, что сказали по радио? – спрашивает меня обыкновенно Мирон Иванович, или я его спрашиваю.
– Да вот передавали… – И начинается наша передача, а старухи эти разные с хвороста присоединяют свои толкования и даже пророчества. И потом уже, как сказку из нашего материала и своего толкования, разносят по деревням.
Так было раз, на обычный вопрос: «Когда война кончится», – мы с Мироном Ивановичем подумали на тысячу девятьсот сорок второй год и вслух об этом сказали:
– Сорок второй год обещает быть решающим.
– Верно, верно, – ответила одна женщина, – намедни мы ехали по железной дороге из Ярославля на Берендеево, и какого-то гражданина в нашем вагоне прихватили, что без билета он едет, и заставили платить вдвое.
Гражданин был, по всему видно, хороший человек, все в вагоне поверили: билет потерял. Но, конечно, кондуктору нельзя, как нам. «Ищи, – говорит, – лучше, а нет – плати штраф». Нечего делать, пришлось платить, и не хватило у него денег всего трех рублей.
Мы было хотели собрать ему, но тут вмешался маленький лысый старичок с белой бородкой.
«Зачем вы собираете? – говорит белобородый, – не надо. – И растерянному гражданину приказывает: – Эх ты, слабое сердце, чего ты пугаешься, соберись с духом, вспомни: у тебя в штанах в заднем кармане сто сорок шесть рублей шестнадцать копеек».
После этих слов растерянный гражданин весь всполохнулся и за карман, и мы все с места сорвались, и все были свидетели, и все считали: копейка в копейку нашлась, как сказал белобородый старичок.
Тогда военный в большом чине заявляет властно:
«Не может быть!»
Мы за старика:
«Как не может быть – все видели».
«Ничего не значит, – отвечает сурово военный, – это он морочит. Вот мой бумажник, пусть скажет, сколько в нем, тогда поверю».
«А ты сам не знаешь, – отвечает старичок, – сколько у тебя денег. Скажи мне сейчас, сколько у тебя, а я тебе после свое скажу».
«В бумажнике у меня, – отвечает военный, – три тысячи двести семьдесят рублей».
«Неверно, – хихикнул белобородый, и такой сухонький, живой, даже подпрыгнул от радости. – У тебя три тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей».
Принялись считать, и вышло точно, как у белобородого. Тут мы все забыли, и военного, и деньги его, и не видели, как он принял слова старика. Все плотно его окружили и в сто голосов задали ему свой вопрос:
«Когда война кончится?»
И он ответил точно, как вы говорите:
«В сорок втором году».
– Ну, это сказки, – перебила женщина-башмачница из Талдома, убежавшая из-под немцев. – Я хорошо знаю этого старика, он наш сапожник, шьет детские гусарики. Ты ведь не сама все это видала?
– Как же, я сама из Ярославля с ним ехала, только в это время я по нужде из вагона вышла, а кума все слыхала и мне пересказала.
– Ну вот! а я, милые мои, своими ушами слышала и своими глазами видала. Солдат один у нас проходил через деревню Ахтимнеево, просился ночевать. А мы ему:
«Сделай милость – переночуй одну ночь в кривой избушке». И рассказали ему, что в этой пустой избушке на краю в полночь под праздник всегда слышится служба и пенье.
«Завтра воскресенье, – сказали ему, – вот бы потрудился для общества, переночевал бы в избушке, а то мы, деревенские, боимся».
«Согласен», – ответил солдат и, как смерклось, пошел ночевать.
Ложится он в печку, закрывает чело железной заслонкой, в дырочку смотрит и ждет. Лежал, лежал – да и заснул. В полночь просыпается и видит: стоят посреди избы три гроба, крышки на них закрыты, а вокруг ходит поп в полном облачении, со свечой в руке, и службу совершает. Кончив службу, поп обернулся к печке и говорит:
«А ты, служивый, что в печке сидишь? – вылезай».
Солдат, ни жив ни мертв, выходит, и поп снимает перед ним крышку с первого гроба.
«Гляди!» – говорит.
Смотрит солдат, – а во гробе полно змей, и все они вьются и шипят. Снимает поп крышку со второго гроба, а в нем полно до краев крови, и от крови пар идет. Снимает поп крышку с третьего гроба, а в нем полно доверху свежих цветов.
«Первый гроб, – сказал поп, – это год сороковой: весь год змеи шипели и вились. Второй гроб – год сорок первый: война, а третий гроб с цветами – год сорок второй: война кончится».
Рассказ о гробах, конечно, всех поразил, и только та женщина, с рассказом о всевидящем старичке, заметила промах башмачницы.
– Ты обещалась, – сказала она, – нам такое рассказать, что своими глазами видала и своими ушами слышала, а теперь говоришь как?