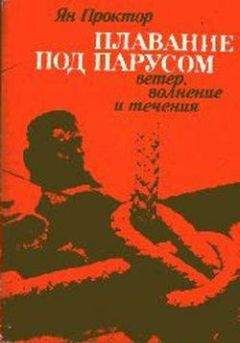Николай Чернышевский - Пролог
— Продолжайте, — заманивающим тоном сказал Соколовский.
— Мне нечего продолжать, Болеслав Иваныч. Я сказал, что не хочу спорить с вами.
— Вы не имеете охоты хлопотать о реформах! Как же понять это, если вы принуждены соглашаться, что русское общество занято реформами?
— Можете понимать различными манерами; не знаю, какую манеру понимать я могу рекомендовать вам. Например: быть может, я полагаю, что никто не послушается меня; быть может, я считаю неприличным лезть с моими советами, когда никто не просит меня об этом; быть может, я думаю: не нужно бы никаких реформ. Я могу думать и это. Какая мне надобность в реформах? Мне хорошо и без них. Если хотите знать мое собственное мнение, я полагаю, что это последнее предположение ближе всего к правде. С какой стати я имел бы охоту горячиться? — Мои дела в хорошем положении, постоянно улучшаются. Ни от кого я не имею никаких неприятностей. По природе я человек смирный. — Я желаю, чтобы все оставалось как есть, потому что ничего лучшего для меня не сделают никакие реформы. Соблюдая благопристойность, я не прочь говорить: «Люблю реформы», — согласитесь, неприлично выказывать себя равнодушным к общей пользе. И хотя я не бог знает какой хитрец, но не так и глуп, чтобы возбуждать презрение и ненависть к себе высказыванием моих задушевных мыслей, которые, как видите, не очень-то возвышенны и привлекательны. — Но здесь, при людях, с которыми могу быть нараспашку, не имею охоты шарлатанить.
Соколовский слушал стиснув челюсти, но не прерывал.
— Алексей Иваныч шутит, — заметил Нивельзин. Он любит шутить.
— Люблю. И если шучу, то шучу. Может быть, надобно прибавить: шучу некстати, неуместно. И это бывает. Но я полагаю, что я нисколько не шучу. А впрочем, действительно лучше, если Болеслав Иваныч будет думать вместе с вами, Павел Михайлыч, что я шучу.
Почти каждый на месте Соколовского был бы выведен из терпения. Но Соколовский имел очень сильный характер.
— Если вы так апатичен к общей пользе, то зачем же вы пишете? — спокойно сказал он.
— Это мое ремесло. Человеку, не имеющему состояния, надобно делать что-нибудь, чтобы добывать кусок хлеба. Я пишу- и добываю. И добываю очень хороший. Потому очень доволен своим ремеслом.
— Но вы пишете не то, что говорите.
— Я не могу писать того, что говорю: какая ж охота публике была бы читать мои рассуждения о моем характере? — Он занимателен только для моих друзей или людей, желающих личного сближения со мной, как вы. Для публики нужны другие предметы, более занимательные, чем моя персона. — Но то, что я пишу, не противоречит тому, что я говорю. Я говорю вам, что равнодушен к реформам: Я не пишу, что восхищаюсь ими. Я говорю, что не хочу писать о реформах. Я и не пишу о них.
— Вы не хотите говорить со мною, — сказал Соколовский, не теряя спокойствия.
— Не совсем правильно выразились, Болеслав Иваныч. Вы слышите, я говорю. И буду говорить, сколько вам угодно. Но я сказал, что не хочу спорить с вами; и не буду. Когда будет время, скажу, почему не хочу. И надеюсь, вы согласитесь тогда, что со своей точки зрения я прав. — О чем вам угодно, чтоб я говорил? — Я готов, с удовольствием и сколько вам угодно.
— Алексей Иваныч, — кротко сказал Соколовский. — Вы согласитесь, другой, на моем месте, мог бы принять такое обращение за обиду.
— Согласен, Болеслав Иваныч. Но вы не примете.
Соколовский стиснул челюсти, помолчал и опять, овладев собою, кротко сказал:
— Вы не хотите быть знакомы со мною?
— Я еще не говорил этого, Болеслав Иваныч. Я говорил пока только о том, что в одном из ваших побуждений сблизиться со мною вы ошибались. Как журналист, я бесполезен для вас. У вас был другой мотив: одинакость наших убеждений. Не знаю, достаточно ли обнаружилось для вас, что и в этом вы ошибались. Мой образ мыслей не сходен с вашим.
Соколовский встал и несколько раз прошел по комнате. Сел и начал спокойно:
— Вы уклоняетесь от спора со мною. Я хочу спорить с вами. Вы не хотите указывать фактов, которыми, по вашему мнению, опровергаются мои надежды. Я напомню вам факты, на которых основываются мои ожидания и которыми, как мне кажется, совершенно устраняется возможность оставаться при безусловном отрицании.
— Я отрицаю! — И даже безусловно отрицаю! — Волгин покачал головою. — Что могу я отрицать? Может ли немой отрицать?
— Я понимаю вас, — терпеливо продолжал Соколовский, не давши себе воли сбиться в сторону от выходки Волгина. — Я понимаю ваше отрицание. Я одних лет с вами. Мои убеждения формировались одновременно с вашими. И от одних и тех же фактов одинаково замирали надежды в наших сердцах. Тогда и я видел, что реформы невозможны. Но теперь другое время. — Он стал перечислять недавние события, которыми русские были пробуждены от долгого сна и потрясена система, повергавшая их в этот летаргический сон.
Вся жизнь русского была приносима в жертву духу завоеваний; все силы русского народа были истощаемы на служение этому духу, весь политический и общественный быт русского народа был подчинен потребностям этого духа, скован в организацию, не допускавшую никаких других направлений деятельности. Более полутораста лет владычествовала эта система, и успехи ее были блистательны. Русский народ привык думать, что его могущество, слава — результаты ее. Он ошибался. Причиною даже и военных успехов его была не эта система, а цивилизация, проникавшая в Россию наперекор ей. Но заблуждение было извинительно. Оно было следствием того логического миража, которым обманывается не только масса, обманываются, слишком часто обманываются даже и великие мыслители; это известный фальшивый силлогизм: «вместе с тем, следовательно, потому». Система, сдавливавшая жизнь русского народа, говорила ему: «Видишь, при мне, — следовательно, благодаря мне, из слабого, обижаемого, презираемого ты сделался могущественным, безопасным, славным». Он видел: да, сделался; и верил: да, благодаря ей…
— Нашим историкам, да и нашим либералам, далеко до такого понимания русской истории, — заметил Волгин Нивельзину. — Это я называю правильно понимать вещи. Читали ль вы до сих пор что-нибудь подобное ясному и твердому очерку дела, какой дает нам Болеслав Иваныч?
— У вас есть писатели, которые судят точно так же, — сказал Соколовский.
— Есть? — Как вы скажете, Павел Михайлыч? — Вы больше меня читали наших либералов и радикалов.
— Не говоря б либералах, и радикалы не говорят так безусловно, — сказал Нивельзин. — И признаюсь, я не приготовлен вполне согласиться с Болеславом Иванычем. — О времени Петра, о начале правления Екатерины Второй, о первой половине царствования Александра Павловича я когда-нибудь поспорю с вами, Соколовский.
Соколовский спокойно ждал, пока возвратят ему свободу продолжать, и стал говорить по-прежнему, с пылкостью в манере и с прежнею ясностью и твердостью логики.
Русские привыкли считать свое войско непобедимым, свое государство могущественнейшим в Европе. Но вот они увидели, что враги безнаказанно вторглись в их страну, одерживают победу за победою над их войсками, принуждают их государство просить мира; — что их государство принуждено с покорностью принять все условия, какие захотели продиктовать победоносные неприятели. Такого унижения не мог равнодушно перенести русский народ. С энергиею справедливого гнева он потребовал отчета в том, как могло произойти падение его могущества. Нельзя было скрывать от него истину, потому что он чувствовал ее; должны были сознаться: причиною всех бед была прежняя система; должны были согласиться: надобно отвергнуть ее, необходимы радикальные реформы; весь государственный организм был фальшивым, гнилым механизмом, не имевшим в себе ничего действительно живого, ничего свежего и прочного, — и все силы общества были подавляемы гнетом этой мертвой машины. Должны были согласиться: необходимо обновить все части государственного устройства, дать простор живым силам общества. Должны были согласиться: система механического угнетения была гибельною ошибкою, необходимо предоставить свободу развитию народа.
— В этом Павел Михайлыч согласится с вами, — заметил Волгин. — По его мнению, Крымская война точно то же для России, что война тысяча восемьсот шестого года была для Пруссии. Я полагаю, что союзники взяли Петербург и Москву, как тогда французы Берлин, и во власти русского правительства оставалась только Пермь, как тогда у прусского — Мемель.
— Сила впечатления была одинакова, — спокойно отвечал Соколовский.
— А, это по новой геометрии: маленький краюшек равен целому.
— Иногда отломить маленький краюшек значит раздробить все тело.
— Вы умеете спорить. — Этим Болеслав Иваныч лучше наших либералов: ошибается или нет, можно судить как угодно, но всегда понимает, что говорит, — обратился Волгин к Нивельзину: — Ныне всё проекты полезных учреждений; я думаю, не подать ли проект, чтобы вашего Рязанцева с компаниею переименовать в гимназистов и велеть им ходить на уроки к Болеславу Иванычу. Авось позаимствовались бы от него хоть каплею смысла. Нет, не позаимствовались бы: некуда поместиться смыслу в их головах: все битком набито вздором. Значит, нечего и подавать проект.