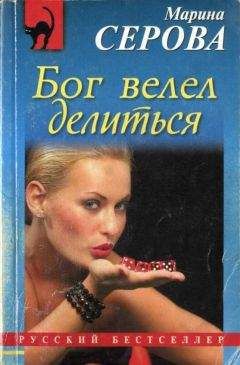Юрий Тынянов - Пушкин
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЮНОСТЬ
1
Когда дядька Фома сказал ему, что его дожидаются господин Карамзин и прочие, сердце у него забилось, и он сорвался с лестницы так стремительно, что дядька сказал, оторопев: "Господи Сусе". Он никак не мог привыкнуть к быстрым переменам в лице, к движениям господина Пушкина, нумера четырнадцатого. Его дожидались в библиотеке. Родителей пускали просто в общую залу. Уже с месяц Карамзин жил в Петербурге, и все было полно слухами о нем: он приехал хлопотать об издании своей "Истории" перед царем. Толстая Бакунина передавала, что царь его принял с распростертыми объятиями и все решено; впрочем, в другой раз сказала сыну и его товарищам, что пока ничего не решено и даже ничего не известно. Вообще более о Карамзине она не пожелала говорить. Только накануне приехал Куницын и рассказывал об успехе Карамзина: все на руках носят, и двор {принужден} был согласиться на издание. Говорили о каком-то празднестве, данном в честь его. А теперь он вдруг оказался в Царском Селе, в лицее. Он был не один: заложив руки за спину, стоял посреди галереи дядюшка Василий Львович и еще третий - мешковатый, высокий, со вздернутыми плечами и в очках - Александр его видел в первый раз и сразу догадался: Вяземский. Василий Львович обнял его - как всегда делал это при других: не глядя на него и кося в сторону друзей. Вяземский наблюдал исподлобья и переглянулся с Александром. - Ваше превосходительство, - сказал он Василью Львовичу, напоминая, староста арзамасский! Дядя медлил. - Вот! - сказал ему Вяземский. - Помню, ваше превосходительство, - ответил дядя молодцевато. Рыжеватые мягкие волосы у Вяземского были всклочены, и задорный чуб дыбом стоял на затылке. Он был похож на петуха, готового в любую минуту броситься в бой. И они засмеялись, а Карамзин покачал головой. Дядю никто никогда не называл превосходительством, да он им и не был, а Вяземский подавно. Это дурачество было ново и ни на что не похоже. Это были все арзамасские шалости. У Александра дух перехватило. Все было ново для него. Дядя вынул из кармашка лоскут, откашлялся и одернул жилет, как всегда делывал перед чтением экспромта. Нет, это вовсе не были стихи. Дядя, сбиваясь на каждом слове и брызгая, усердно читал не то церковнославянскую грамоту, не то какое-то кляузное отношение приказного: - "Месяца Лютого, Сечня в день двунадесятый - лето второе от Липецкого потопа, в доме Старушки бысть ординарный "Арзамас". Присутствовали их превосходительства: Громобой, Светлана и Вот. Ополченные красным колпаком и гусиным пером против "Беседы" безумства... - ну, дальше о Шаховском - ты сам прочтешь - признали арзамасцем Сверчка. Его превосходительство Чу..." - Словом, ты - арзамасец, - сказал дядя кратко. - Это о тебе, мой друг, сказано - Сверчок. А их превосходительства - это такой титул: их превосходительства, гении "Арзамаса". "Арзамас" шумел. Шаховской вздумал было в комедии вывести жалкого вздыхателя, Фиалкина, и осмеял стихи Жуковского. Комедия - "Липецкие воды" - была весела и имела шумный успех, но все друзья вкуса ополчились против Шаховского. Эпиграммы посыпались на него дождем. Его иначе не называли, как Шутовским, а комедию его - Липецким потопом. Писались церковнославянским штилем длинные и бессмысленные акафисты в честь безумной "Беседы" - этих косноязычных дьячков, у которых оказался столь сильный и колкий союзник, как Шаховской. Дядя Василий Львович разъезжал по обеим столицам, неистовствуя. Постепенно самое пересмешничество понравилось; всем нравился этот как бы тайный сговор против "Беседы". Как-то Блудов, случайно проезжая через город Арзамас и скучая в станционном домике, вздумал изобразить в штиле "Беседы" и Шаховского и все происшествие. "Видение в некоей ограде" - называлось его замысловатое произведение. Так все воевавшие против Шаховского и "Беседы" стали арзамасцами, безвестными жителями Арзамаса; учредилось общество, назвавшееся "Арзамасом", и эмблемой его явился арзамасский гусь. Арзамас славился своими жирными гусями. Сам Жуковский принимал во всем самое деятельное участие. Они начали собираться то в квартирах друг у друга, то в самых неподходящих местах сиденье в колясках и партерах по двое и по трое также именовалось собранием. Они важничали и корчили из себя старых вельмож, совсем как в "Беседе". Они то и дело говорили друг другу "ваше превосходительство". А по вечерам заседали в красных колпаках - "Беседа" звала их якобинцами за каждый перевод с французского. Писались длиннейшие и презабавные протоколы. Завелся, как всегда, секретарь - не кто иной, как сам Жуковский. Протоколы писались штилем дьячков. Самые месяцы были переименованы и пересочинены по-славянски. Календарь изменился. Январь был теперь у них Просинец, февраль - Лютый и Сечень, март - Вресень, апрель Березозол. Собственные имена и фамилии показались им скучны. Они взяли баллады Жуковского и стали переименовывать себя по его героям и по всему, что придется: Рейн, черный вран, дымная печурка, о которых говорилось в стихах, - все пригодилось. Теперь они прозвали его Сверчком, и он был истым арзамасцем. Карамзин внимательно смотрел на Александра Пушкина - отныне Сверчка. Он уважал и ценил этот возраст, когда радость так переполняет все существо, что губы прыгают перед тем, как засмеяться. Улыбка его была, впрочем, грустная. Вяземский, подняв палец, как уездный секретарь, читающий статью закона, привел текст:
С треском пыхнул огонек, Крикнул жалобно сверчок, Вестник полуночи.
Слово "пыхнул" он произнес с особым выражением, по-арзамасски. - У нас, друг мой, у всех теперь такие имена, - сказал Василий Львович торопливо. - Вот Вяземского зовут Асмодеем, Батюшкова - Ахиллом - это больше по росту; ты ведь с ним виделся - он маленький... Меня тоже прозвали: Вот. Александр переспросил. Дядюшкино имя было ни на что не похоже. - Вот, - повторил дядя неохотно, - вот и все. - Не вот и все, а Вот, - поправил Вяземский. - Я и говорю: Вот, - сказал дядя с неудовольствием. Конечно, все было смешно: и Ахилл и Сверчок, но Вот было совершенно ни с чем не сообразно. - Там есть у Жуковского такие стихи, друг мой, - пояснил дядя, внезапно омрачась: - Вот красавица одна... вот легохонько замком кто-то стукнул, и прочее. В конце концов, не все ли равно? Вот так Вот. Он был явно недоволен своим именем. - Дашков - Чу, а я Вот, - сказал он потом, повеселев. - А Тургенев - Две Огромные Руки, вот как. Дядя слишком был занят своим именем. Вяземский сказал Александру, уже не шутя: - "Беседа" одна конюшня, а если члены ее выходят за конюшню, так цугом или четверкой заложены вместе. Почему же только дуракам можно быть вместе? Вот и мы заживем по-братски - душа в душу и рука в руку. Когда вы кончаете лицей? Мы собираемся по четвергам. Потом он спросил его серьезно, и хохолок встал на затылке, читал ли он новую балладу Жуковского и критику на него Блудова. Критика очень замечательна. Карамзин спросил Александра, не сыро ли в Царском Селе, особенно в Китайской Деревне, потому что он собирается сюда всею семьею на лето. Это была еще новость, он только вчера окончательно надумал, и теперь по пути в Москву они остановились осмотреть его домик. Заглянул в двери быстрый Ломоносов, и дядя, вспомнив золотые дни, когда в каком-то вдохновении писал "Опасного соседа", а Ломоносов и Пущин были невольными свидетелями этого, представил его Карамзину и Вяземскому. Карамзин и его попросил быть у него гостем. На пороге встретил их запыхавшийся директор. Он отирал фуляром пот с лица и объяснил, что примчался сюда так скоро, как мог. О, если бы юношеские ноги! Веселость его была чрезмерна. И все тотчас переменилось Вяземский посмотрел исподлобья на Александра; увидел потерянный взгляд и раздутые ноздри. Директор был рыхлый, бледный, широкозадый, с остзейскими голубыми глазами, которые он беспрестанно закатывал. Небесная доброта изображалась на его лице, а угодливость и развязность - во всех движениях. Он был в восторге от таких гостей и прочее. Шутки сразу прекратились. "Арзамаса" и следа не было. И Карамзин заторопился. Он попросил директора отпустить с ними Пушкина и Ломоносова осмотреть Китайскую Деревню. Китайская Деревня была в двух шагах от лицея. Они подошли к этим домикам, таким холодным, таким необитаемым, точно в них никогда и нельзя было представить ничего живого. Со странным чувством смотрел историк на Китайскую Деревню, в которой был обречен жить этим летом. Он постригся в историки, - сказал о нем Петруша Вяземский, но иноки не живали в таких нарядных, таких холодных беседках. Василий Львович недоумевал: - Тут, друзья мои, до кухни, ежели ее устроить вон в той палатке, далеко: все простынет. Он называл эти домики по-военному - палатками. Странная фигура вдруг вытянулась перед ними: страшной толщины старый генерал, запыхавшись, стоял у входа в Китайскую Деревню, как бы преграждая путь. Александр узнал его: комендант Царского Села Захаржевский явился приветствовать гостей. Впрочем, приветствия не было. Генерал, представившись, пролепетал, что Китайская Деревня не в порядке и он просит отложить осмотр. Он был бледен, и глаза его сверкали, словно у него отнимали эти дома и словно они принадлежали ему. - Прикажите открыть двери, - спокойно сказал Карамзин, тоже бледнея. Мы подождем здесь. Генерал, потоптавшись, отдал приказание хриплым и сдавленным голосом полководца, принужденного отступить, - открыть двери. Он удалился. Заплесневелые стены представились им. Василий Львович сказал, впрочем, что здесь летом будет хорошо. Александр посмотрел на Карамзина, потом на Вяземского. Все было понятно: дворцовая челядь, ненавидевшая чужих и свято оберегавшая все углы Царского Села от вторжения лицейских, встревожилась при появлении великого человека. Он закусил губу, раздул ноздри и тихо фыркнул. Вяземский исподлобья, поверх очков, посмотрел на него. - Пыхнул жалобно сверчок, - сказал Карамзин, оглядел их и улыбнулся. Герой-комендант отступил перед его войском. Потом Пушкин с Вяземским по-братски, по-лицейски взялись за руки и пошли осматривать все углы новых владений. Василий Львович увязался за ними и делал хозяйственные замечания, весьма дельные. Он нашел подходящее место для погребца. - В жару, друзья мои, вино любит скисать. Это нужно понимать. Карамзин никогда не пил вина. Все же Вяземский успел сказать Александру, что идет настоящая война: "Беседа" сильна, Шишков обо всех делах академии входит к Аракчееву; что Николая Михайловича враги чуть не съели в Петербурге, даром что все люди со вкусом носили его на руках; что комедия Шутовскова имеет сильный успех и что над Жуковским смеются. Ну да не на таковских напали. Вкус, ум, "Арзамас"! Он пришлет ему нечто вроде торжественной арзамасской песни: "Венчанье Шутовскова".