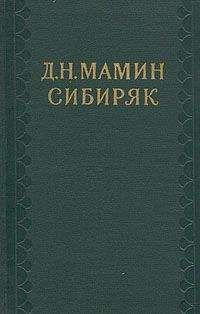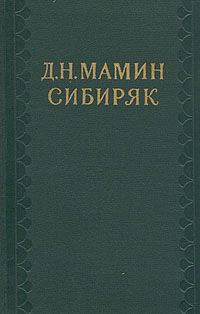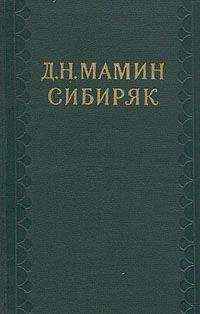Василий Никифоров-Волгин - Ключи заветные от радости
Застуженный конь обрадованно тряхнул гривой и бойко побежал к монастырским стенам.
– Рядом с монастырем деревня, – говорила монахиня, – и народ в ней, особливо молодежь, ужасно озорной. Много от них скорбей всяких. Летом яблоки в саду воруют, игуменье стекла в окнах выбивают, в церкви бражничают… Есть у нас святой источник… Вода в нем целебная… Так не поверите ли… озорники-то в святую воду… Господи! На церковных стенах грязные слова пишут и камнями целятся в кресты собора. Страшно, родной, жить стало! – И вдруг бодрым, звенящим голосом она воскликнула, светло улыбаясь: – Недавно у нас свершилось великое чудо!
В старой часовне обновился образ Господа Вседержителя! Был совсем как уголь, а теперь озарился неизреченным светом!
Мы подъехали к монастырю.
Поздно ночью я вышел на улицу.
Кружилась поземка, и белый вьюжный дым проносился над монастырскими стенами. В окнах келий погасли огни, только кое-где лампадные искорки.
До меня донеслась вдруг, колеблемая вьюгой, чья-то озябшая молитва к Преблагой Царице:
– Зриши мою беду… зриши мою скорбь…
Я подошел ближе.
У монастырских врат стояла в тулупе вратарница и по древнему обычаю охраняла опочивший монастырь.
А вокруг тишина, вьюжный дым и неведомый зернистый шелест. Не то шуршала стеклянная поземка, не то осыпались монастырские стены.
Алтарь затворенный
В глубине большого сибирского леса звонили. Звон ясный, прохладный, как далекое журчание родника. Словно заря с зарею, он сливался с густым шумом апрельского леса, вечерними туманами, лесными озерками талых снегов, с тонким звенящим шелестом предвесенья.
Я затерялся в лесной чаще и пошел навстречу звону. В белом круге тонких берез показался убогий монастырский скит. Вечернее солнце золотило бревенчатый храм. В пролете колокольни седая, в черной скуфье голова звонаря.
Я вошел в святые врата обители и сел на скамью. На колокольне отзвонили. Ко мне подошел седой инок.
– Звонарь Антоний, – сказал он и уставно поклонился. – Редко кто заходит в нашу обитель… Видите, каково запустение.
– Много ли у вас братии? – спрашиваю.
– Кроме меня, никого. Все ушли в страну далечу… Кто лесной суровости не выдержал и в мир ушел, а иные смерть мученическую прияли…
Года три тому назад пришли к нам в ночь на Успенов день… Очень били нас. Глумились. Иконы штыками прокалывали… В ту ночь расстреляли они схимника Феоктиста, иеромонаха Григория, иеромонаха Македония, иеродьякона Сергия, послушника Вениамина… – Он посмотрел на близлежащее скитское кладбище. – Теперь один я здесь! По-прежнему звоню, молитвословлю, в огороде копаюсь, в лес за дровами хожу…
– А не боитесь, что на ваш звон опять придут сюда?
– Пусть приходят, но я устава нашего не преступлю… Одно прискорбно, что много лет как затворены врата в алтарь Господень и некому совершить литургию… – На время задумался, опустив голову, а потом опять вскинул на меня золотые от заката глаза и сказал: – Завтра Великий понедельник! Ежели можешь, то пойдем со мною молиться…
Мы ступили в завечеревшую церковь.
Антоний затеплил свечи перед затворенными вратами алтаря и стал на клирос. Свечи осветили пронзенные штыками старые иконы.
Началась великая страстная утреня.
Вся Русская земля зазвучала в древнем каноне Страстной седмицы: «Непроходимо волнующееся море… Божиим своим велением насушившему…»
Лесник Гордей
Предвесенним ветреным днем в чайную у большой дороги пришел лесник Гордей; без шапки, в мокрых валенках и дырявом армяке. Седые волосы взвихрены ветром. Встал у двери. Развел красными обветренными руками и сказал темной чайной, словно в бреду или в опьянении:
– Я говорю ему, тихо так да душевно: почто, сыне мой, душу свою очернил?
– О чем ты, дедушка? – спросили из-за стола.
Лесник обвел испуганными глазами низкий прокопченный потолок, пухлого хозяина Архипа, полки с белыми чайниками, людей в синем табачном дыму и ответил с горькой улыбкой:
– О сыне, Федоре Гордеевиче…
– С города приехал? Ну и слава Богу, тебе, старому, помога. А ты тосковал по нем! – сказал кто-то.
– Приехал… да… приехал, но не тот. Сын мой Федя умер! Умер ласковый монастырский Федя, а явился другой: душою черен, образом угрюм, табашник и сквернослов!
Чайная не слушала Гордея, а он жаловался:
– Говорю я сегодня Федору моему: пойдем, как встарь, в Николину обитель на вынос плащаницы. Помнишь, как утешно поют там монахи: «Приидите ублажим Иосифа приснопамятнаго», – а он мне в ответ: не желаю! Один у монахов обман, я лучше на гармошке сыграну… Ах, братцы, как он пронзил мое сердце этими словами! Не к добру Ласка моя всю ночь выла, не к добру!.. Как все это горестно, братцы! Ждал его. Тосковал. Сапоги сшил ему новые. Утехой, полагал, будет в старости моей, а он… Плащаницу на гармонь, Евандель на цыгарки!.. – Гордей вышел на середину чайной. – Прискорбна душа моя, други! Научите, как сына моего образумить?
– Гордей-то, кажись, в разуме замутился! – качнулись чьи-то слова.
– Замутишься! Жил себе как лесной схимник. Лампадочка да Псалтырь, лес да Господь, а тут – на тебе, старый, на утешение: табак да гармошку!
– Архип! – кивнули засыпающему хозяину, – нельзя ли граммофончиком нас утешить? Наставь пластиночку про Бима и Бома!
Сквозь хриплый жестяной хохот Гордей жаловался прокуренной и хмельной чайной, обводя всех спрашивающими глазами:
– Я его, Федю-то, сызмальства учил читать по святой старинной книге, по благословенным местам водил… Был он тихим, как монашек, а теперь говорит: не желаю! В обители к выносу плащаницы благовестят, а он на гармонии играет! Сыне мой, почто душу свою очернил? Али я тебя не пестал, али я тебя не берег? – Гордей подошел к хозяину и пытливо спросил его: – Есть у тебя дети?
– Растут два оболтуса, – лениво буркнул тот, укладывая голову на прилавок.
– Веруют они в Бога и святую Его книгу?
– Не знаю. Наше дело торговое!
– Спокойный ты человек, – покачал головой лесник, – а я вот так не могу. Болит душа моя о сыне заблудшем…
От хозяина Гордей перешел к ражему парню:
– Объясни ты мне…
– Отстань, борода! Я холостой! Не мешай Бима и Бома слушать!..
Лесник останавливался то перед одним, то перед другим, прося у чайной утешных слов. Молча и скорбно потоптался на месте, а потом вышел на ветреную улицу и поплелся размытой дождями дорогой к чернеющему лесу.
Шел по лужам, размахивал руками и сам с собою разговаривал.
Остановился посредине дороги. Поднял лохматую голову к затученному небу – не то молился, спрашивал, глядел ли, как плыли тучи?
Заглянул в лес и опять повернулся к чайной, словно испугался своей избы, шума деревьев и гармошки сына.
Пришел в чайную и принес те же слова, ту же тоску и те же беспокойные глаза.
– Дядя, – позвали его, – плюнь на все! Иди, глотни из бутылочки смоленского самогону. Сразу запляшешь!
– Не пьющий я. Мне бы душевного человека на манер старца – с ним бы побеседовать!
Подошел к Гордею ражий парень, взял его за руки и усадил на скамью.
Сидел он до тех пор, пока не вошли в чайную глубокие вечерние тени и не стало в ней ни одного человека.
Архип взглянул на старика, и что-то похожее на жалость затеплилось в его глазах. Он хотел было подойти к нему и утешить, но не нашелся, что сказать ему, а лишь молча поставил перед ним стакан чая.
Древняя книга
Когда живы были старики, то Библия лежала под иконами, на полке, покрытая парчовым покровом. Сейчас она служит для хозяйственных надобностей большой семьи бухгалтера Ивана Платоновича Рукавишникова и лежит где попало. Библией пользовались как прессом, подпирали ею окно во время сильных ветров и давали перелистывать малым ребятам. На ее страницах дети рисовали домики и кораблики, садились на нее и становились.
Заглавные листы древней книги были исписаны житийными пометками, от дедовых лет и до нашего времени.
В ноябре 1752 года узорной славянской вязью тихо и свято было написано:
«Сия боговдохновенная книга, истина и путь вверженному в пучину отчаяния! Сыне мой, возлюби мудрость веков древних и насладися ею яко жаждущий воды живой. Вкушая сладость ея, долголетен и безпечален будеши на земле. Блюди книгу сию яко камень драгий, яко око свое. Да будет она тебе и потомству твоему в дар и благословение».
В 1812 году чья-то рука записала скорбные слова: «Помяни, Господи, во Царствии Твоем убиенных на поле брани рабов Твоих Петра, Герасима, Платона – возлюбленных сынов моих».
«В лето 1845-е, генваря 12 дня волею Божией преставился еси родитель наш Аркадий Петрович Рукавишников. Жития его было 82 года, четыре месяцы и три дня. Пред кончиной сказано было им в бреду: в мире скорбни будете: Огнь и кровь… престолов колебание, и алтарей осквернение…»
«Апреля 20 сего числа бысть великий гром. В книге, именуемой “Звездочет царя Ираклия”, сказано: “ Аще ли возгремит гром в юнце, пшенице пагуба по местам являет, и в западных странах недузи, в царских дворах радость велия”».