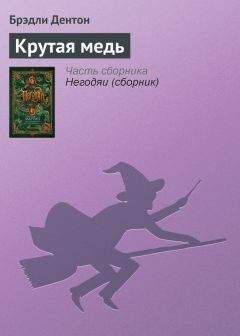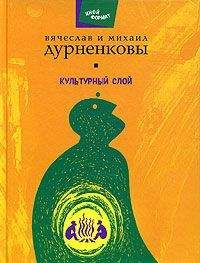Джозеф Д’Лейси - DARKER: Рассказы (2011-2015)
Справа от меня Рейн разворачивал свое лазурное полотно, куда несколько рыбаков забросили свои сети; слева от меня возвышались старинные городские укрепления.
Воздух становился прохладнее, волны пели свой вечный гимн, шварцвальдский бриз колыхал листву, а я шел, ни о чем не думая, как вдруг звуки скрипки резанули мое ухо.
Я прислушался.
Славка-черноголовка не вкладывает больше изящества, нежности в свои быстрые трели, больше восторга в поток своего вдохновения.
Но это было ни на что не похоже, не знало ни отдыха, ни меры; то был каскад безумных нот восхитительной точности, но лишенных порядка и системы. И затем, сквозь полет вдохновения, несколько пронзительных, резких штрихов пронизывали до мозга костей.
«Теодор Блиц здесь», — сказал я себе, раздвигая высокие заросли бузины у подножия склона.
Я увидел, что нахожусь в тридцати шагах от почты, около покрытого ряской водопойного желоба, откуда огромные лягушки высовывали свои курносые носы. Немного поодаль высились конюшни со своими широкими стойлами и дом с осыпавшейся штукатуркой. Во дворе, окруженном стеной высотой по грудь и ржавой решеткой, разгуливали пять или шесть куриц, а в большой клетке бегали кролики со вздернутыми задками и хвостиками трубой; они увидели меня и исчезли как тени под дверью риги[317].
Никакого другого шума, кроме шепота речных волн и странной фантазии скрипки, не было слышно.
Как, черт возьми, Теодор Блиц оказался здесь?
Мне пришло в голову, что он экспериментировал со своей музыкой над семейством Мютц; и, подталкиваемый любопытством, я скользнул за низкой оградой, чтобы посмотреть, что творилось на ферме.
Окна там были распахнуты настежь, и в низкой просторной комнате с коричневыми балками, находящейся на одном уровне со двором, я увидел длинный стол, накрытый со всей пышностью деревенских праздников; более тридцати приборов выстроились на нем; но меня поразило, что перед всем этим великолепием сидело лишь пять человек: папаша Мютц, мрачный и задумчивый, в черном вельветовом сюртуке с металлическими пуговицами — крупная седеющая голова, запавшие глаза уставились в одну точку перед собой; его зять с сухим, ничего не выражающим лицом, поднятый воротник рубашки закрывает уши; мать в огромном тюлевом чепце, сидящая с потерянным видом; дочь, довольно красивая брюнетка в завязанном под подбородком чепчике из черной тафты с золотыми и серебряными блестками, с пестрым шелковым платком на плечах; наконец, Теодор Блиц в сдвинутой на ухо треуголке, зажавший скрипку между плечом и подбородком — маленькие глазки сверкают, щека приподнята широкой складкой, локти двигаются, как ноги кузнечика, пиликающего свою пронзительную песенку в зарослях вереска.
Тени от заходящего солнца, старинные часы с фаянсовым циферблатом в красный и голубой цветочек, угол решетки, на который спадала занавеска алькова в серо-белую клетку, и особенно музыка, все более нестройная, производили на меня какое-то непонятное впечатление: меня охватил настоящий панический ужас. Может, так подействовало на меня рюдесхаймское вино, которое я слишком долго вдыхал? Может, бледные краски наступающего вечера? Не знаю; но я не стал смотреть дальше и, согнувшись, тихо скользнул вдоль стены, чтобы вернуться на дорогу, когда огромный пес прыгнул в мою сторону на всю длину цепи, заставив меня вскрикнуть от неожиданности.
— Тирик! — рявкнул старый почтмейстер.
А Теодор, заметив меня, бросился из комнаты с криком:
— Эй, да это Кристиан Спесье! Входите же, дорогой Кристиан, вы пришли кстати!
Он пересек двор и взял меня за руку:
— Дорогой друг, — сказал он мне со странным оживлением, — вот час, когда борются черное и белое… Входите… входите!
Его воодушевление пугало меня, но он не хотел слушать мои возражения и увлек меня за собой, не дав ни малейшей возможности сопротивляться.
— Вы знаете, дорогой Кристиан, — говорил он, — что сегодня утром мы окрестили ангела Господнего, маленького Никеля-Саферия Бремера. Я приветствовал его приход в этот мир наслаждений хором серафимов. А теперь представьте себе, что три четверти наших гостей сбежали. Хе-хе-хе! Входите же, добро пожаловать!
Он толкал меня в плечи, и волей-неволей я переступил порог.
Все члены семейства Мютц повернули головы. Напрасно я отказывался присесть, эти восторженные люди окружили меня:
— Он будет шестым, — кричал Блиц, — число шесть — прекрасное число!
Старый почтмейстер с чувством пожимал мне руки, говоря:
— Спасибо, господин Спесье, спасибо, что вы пришли! Никто не скажет, что все честные люди сбежали от нас… Что мы оставлены Богом и людьми!.. Вы останетесь здесь до конца?
— Да, — пролепетала старуха, глядя умоляюще, — надо, чтобы господин Спесье остался до конца; он не может отказать нам в этом.
Я наконец понял, почему этот стол был таким большим, а число гостей таким малым: все приглашенные на крестины, помня о Гредель Дик, нашли предлог, чтобы не приходить.
Мысль о таком отказе сжала мне сердце:
— Ну конечно, — ответил я, — конечно… Я остаюсь… И с удовольствием… с великим удовольствием.
Наполнили стаканы, и мы выпили вяжущего и крепкого вина, старого маркобрюннера, терпкий букет которого наполнил меня меланхолическими мыслями.
Старуха, положив мне на плечо свою длинную руку, прошептала:
— Еще глоточек, господин Спесье, еще глоточек, — и я не посмел отказаться.
В этот момент Блиц опустил свой смычок на вибрирующие струны, и я почувствовал, как по всему телу пробежала ледяная дрожь.
— Это, друзья мои, — воскликнул он, — воззвание Саула к колдунье[318].
Я хотел было убежать; но во дворе жалобно выл пес, близилась ночь, комната наполнялась тенями; резкие черты папаши Мютца, его запавшие глаза, скорбно сжатые широкие челюсти не внушали доверия.
Блиц пиликал и пиликал свой призыв изо всех сил: складка, прорезавшая его левую щеку, становилась все глубже, капли пота сверкали на висках.
Почтмейстер вновь наполнил наши стаканы и сказал мне глухим, властным тоном:
— Ваше здоровье!
— Ваше здоровье, господин Мютц! — ответил я, дрожа.
Вдруг ребенок захныкал в своей колыбели, а Блиц с дьявольской иронией вторил ему резкими звуками, крича:
— Это гимн жизни… хе-хе-хе! Много раз споет его малыш Никель, пока не станет лысым… хе-хе-хе!
Старые часы в то же время заскрипели в своем ореховом футляре, и, когда я поднял глаза, удивленный этим шумом, то увидел, как из них появилась механическая фигурка, сухая, лысая, с запавшими глазами, с насмешливой улыбкой, — короче говоря, Смерть, которая приблизилась размеренным шагом и принялась рывками косить несколько выкрашенных в зеленый цвет травинок на краю ящика. Затем, с последним взмахом косы, она развернулась и возвратилась в свою дыру так же, как и пришла.
Я наполнил свой стакан для храбрости.
«Ну-ну, жребий брошен; никто не избежит своей судьбы; мне с начала времен было предназначено выйти этим вечером из таможни, пройтись по аллее святого Ландольфа, прийти против воли в этот мерзкий вертеп, под зов музыки Блица, выпить маркобрюннера, пахнущего кипарисом и вербеной, и увидеть, как Смерть косит крашеную траву… Забавно… Это в самом деле забавно».
Так думал я, смеясь над судьбой людей, что считали себя свободными и которых вели за веревочку, привязанную к звездам. Так сказали волхвы, надо им верить.
Так смеялся я в тени, когда музыка смолкла.
Последовала глубокая тишина — только часы продолжали свое монотонное «тик-так», а снаружи луна за Рейном медленно поднималась над дрожащей тополиной листвой и ее бледный свет отражался в бесчисленных волнах. Я видел это, и в этом свете проплывала черная лодка; в ней стоял человек, тоже черный, в развевающемся вокруг бедер полудлинном плаще и большой широкополой шляпе, украшенной лентами.
Он исчез как сон. Я почувствовал вдруг, как тяжелы стали мои веки.
— Выпьем! — крикнул капельмейстер.
Стаканы зазвенели.
— Как хорошо поет Рейн! Он поет песню Бартольда Гутерольфа, — сказал зять. — «Ave… stella…»
Никто не ответил.
Далеко, очень далеко слышался ритмичный плеск двух весел.
— Сегодня Саферий получит прощение! — воскликнул вдруг старый почтмейстер хриплым голосом.
Несомненно, он пережевывал эту мысль уже давно. Именно она печалила его. Я покрылся гусиной кожей.
«Он думает о сыне, — сказал я себе, — о сыне, которого должны повесить!»
И я почувствовал, как холодок бежит по спине.
— Прощение! — произнесла дочь со странным смешком, — да… прощение!
Теодор коснулся моего плеча и, наклонившись к моему уху, сказал:
— Духи идут!.. они идут!
— Если вы говорите об этом, — закричал зять, стуча зубами, — если об этом — я ухожу!..